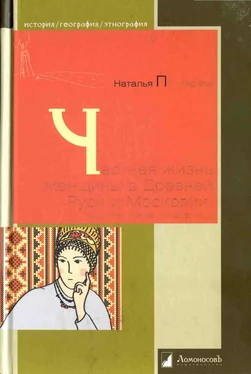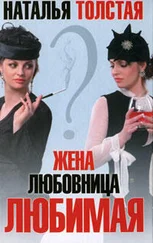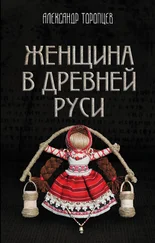Тем не менее идея «духовного разума» — живой частицы божественной истины в каждом человеке — прямо коснулась оценки духовного раскрепощения женщины. В православной дидактике произошло некоторое отступление от идеи «второсортности» женщины, казавшееся поначалу почти еретическим. Особую роль в этом сыграли произведения православного публициста XVI века Ермолая-Еразма — автора «Повести о Петре и Февронии» и еще нескольких сочинений, в которых он «неизменно выступал против бесчествования и умаления женщины». [319] Послание многословное. Сочинение инока Зиновия. М., 1863. С. 284; Клибанов А. И. Повесть о Петре и Февронии как памятник русской общественной мысли // ИЗ. М., 1959. Вып. 65. С. 305.
«И женеск бо пол человецы наричутся, — писал он. — Яко же миру без муж невозможну быти, тако и без жен». [320] Шляпкин И. Ермолай Прегрешный, новый писатель эпохи Грозного // Сб. С. Ф. Платонову — ученики, друзья, почитатели. СПб., 1911. С. 556; РО РНБ. Собр. Новг. Соф. б-ки. № 1296. Л. 271об.
Ермолай-Еразм и другие современные ему авторы XV — начала XVI века отразили новые нюансы представлений об идеальных отношениях женщины с их близкими, и прежде всего с мужем.
Смена акцентов: с безоговорочного осуждения или пренебрежения, «не замечания» женщин — к усилению пропаганды их роли как жен и матерей, с фиксирования биографий одних только выдающихся «жен» земли Русской — к пробуждению интереса к простым, ничем не примечательным «женским личностям», интересным лишь своей характерностью для эпохи, — была вызвана не гуманизацией культуры (хотя такие предположения высказывались) или, по крайней мере, не только этим. В эпоху Грозного и Годунова странно было бы ожидать утверждения гуманистических идей. Чувственные проявления любви у представителей иных культур равным образом осуждались московитами в XV веке [321] «Женки в индейской земле все бляди» (Хождение за три моря Афанасия Никитина. М., 1960. С. 33).
и отвергались ими много позже (даже в XVIII веке). Переориентация православных проповедей с идей аскетизма на идеи целомудренного брака, [322] «Бегай блуда беззаконна, а закон с законными не возбраняет» (Требник. XVII в. // РО РНБ. Погод. № 308. Л. 240об.).
с запрета женщинам «тешиться до своей любви» и кар за любое «ласкателство» — на воспитание умения отличать богопротивные желания (например, «удоволства» [323] В отличие от Запада, православными проповедниками вопрос о сексуальном удовлетворении в сексуальных отношениях даже не ставился. См.: Пушкарева Н. Л. Женщина, семья, сексуальная этика в православии и католицизме // Этнографическое обозрение. 1995. № 3. С. 56–74.
) от разрешенных, допускаемых во имя чадородия и многочадия, — была связана с молчаливым признанием «неисправимости» женщин и человека вообще и в то же время желанием вовлечь даже «злых жен» в лоно православного вероучения. Именно благодаря этому родился идеал «простой жизни» — с ее радостями умеренности, здоровья, труда и супружеской любви, не обременной волнениями и «хотениями».
Отсутствие эпистолярных или автобиографических источников, исходящих от женщин XV–XVI веков (за исключением царской переписки), [324] ПРГ. Т. I. С. 2–5.
— серьезное препятствие в реконструкции их частной жизни. И все же литературные памятники позволяют почувствовать, насколько «объемнее» и сложнее стали образы «добрых жен». В идеальных супругах мужья стали, если верить летописцам и сочинителям авторизированных переводов греческих текстов, ценить не только «лепоту лица», «тихость», верность, но и «разум». Таков, например, герой «Александрии», который, «безмерную красоту лица ее (Роксаны. — Н. П .) видех», оказался «прельщен» не ею одною, но и «женскою мыслию устрелен бысть». [325] Александрия // ПЛДР. Вторая половина XV в. С. 26–30.
Феврония в ранних вариантах известной повести представлена «в простоте и всея лепоты» лишенной. В поздних списках это недоразумение было снято переписчиками, и Февронию изображали уже «цветящей душевною добротою», «со многим разумом», загадывающей загадки с фольклорным озорством Василисы Премудрой («Сего ли не разумееши?»). Успех в предпринимательских делах некоторых житийных героев-мужчин стал увязываться с тем, что они «думали ж жонками». [326] ПоПиФ. С. 214; Житие Михаила Клопского. XV в. // ИРЛ. Т. II. М.; Л., 1946. С. 267.
В текстах переводных повестей, в силу вставок переводчиков ставших самостоятельными текстами, распространялась (прямо противоречащая сентенциям Заточника и «слов») идея «соблюдения» государства с помощью «изрядной и мудрой жены» и решительно оспаривалось утверждение, будто бы «женам несть лепо в мужеские вещи входить» и что «высокоумие» женщины является ее «погрешением». Если в летописях домосковского времени жены князей чаще всего отличались «невмешательством» в государственные дела, то в исторических повестях XVI века развился и углубился мотив «положительного», благотворного влияния женщины на мужа-политика (например, княгини Анастасии Романовой на мужа, Ивана IV, которого она «на всякиа добродетели наставляа и приводя»). Симптоматично, что в XVII веке русский переводчик западноевропейских новелл о «хытростях женьских» оставил в стороне все сюжеты, в которых говорится о женской глупости. [327] Стефанит и Ихнилат. 1478 г.// Там же. С. 182; ПоЦиЛ. С. 429. Повесть о рождении и похождениях царя Соломона. XVII в.// ПЛДР. XVII (1). С. 455; РИБ. СПб., Т. XIII. 1909. Стб. 1274 (Хронограф 1617 г.); Фацеции. С. 72.
Читать дальше