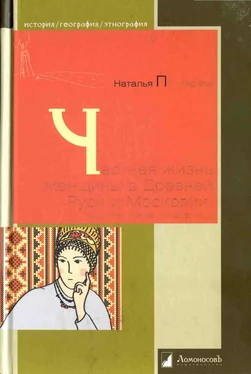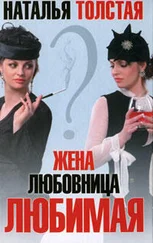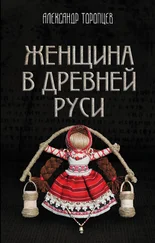Само слово «матерство» (материнство) есть в источниках начиная с XI века, но там с трудом можно обнаружить какие-либо проявления чувств матерей к рожденным «чадам». Единственное, что можно установить на основании древнейшего свода законов — Русской Правды (XI век), — так это прямую связь материнства со сложными имущественными отношениями в семье, которые влияли на частную жизнь всех ее членов. По закону мать могла принять (и часто принимала) на себя опекунские функции, получая единоличное право распоряжаться общесемейным имуществом, а также право наделять (или лишать доли) выросших отпрысков. При этом ей давалось право самой выбрать, к кому из детей она питает наибольшую привязанность: «…аще вси сынове будут лиси (выгадывающие), дочери может дати (наследство. — Н. П .), хто ю кормит». Древнерусский закон ставил, таким образом, имущественные отношения в семье в зависимость от индивидуально-психологических: характер распределения общесемейной собственности между наследниками мог отражать степень привязанности к ним матери. [199] Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. По русским рукописям 1095–1097 гг. Труд В. И. Ягича. Изд-во ОРЯС АН. СПб., 1886. С. 450; ЖДР. С. 112; Pushkareva N. Was the XVI th a Turning Point? // La donna nell’ economia. XXI settimana di studi instituto internationale di storia economia. Prato, 1989. P. 70–74; ПРП. Т. I. РП. Ст. 106. С. 119; Псковская судная грамота. XIV в. // ПРП. Т. II. Ст. 53. С. 293.
Живые свидетельства такой привязанности найти в ненормативных памятниках раннего Средневековья (летописях и литературе, агиографии) довольно трудно. Разве что к ним можно отнести имена, которые давали матери детям: «Сладкая», «Изумрудик», «Славная», «Милая», — сохранившиеся в скупых на эмоции летописях. Любопытно, что в летописях сохранились только ласковые прозвища девочек, и это противоречит идее предпочтения, оказываемого — если судить по покаянной литературе — сыновьям. Отфильтровав факты реальной жизни, авторы летописей и литературных произведений XI–XIII веков оставляли лишь то, что нуждалось в прославлении и повторении, — положительные примеры для назидания. Поэтому можно утверждать, что описанные в летописях грустные расставания родителей с дочерьми, выходящими замуж и покидающими родительский дом, были характерны для семейных отношений («и плакася по ней отец и мати, занеже бе мила има и млада» [200] ПСРЛ. Т. I. Под 1178, 1187 и 1198 гг. Наиболее распространенные женские славянские имена: Предслава (1104, 1116), Болеслава (1166), Всеслава (1197), Звенислава (1142), Ярослава (1187), Сбыслава (1178), Верхуслава (1137, 1187); норманские — Ольга (1150), Рогнеда (1168), Малфрид (1167). См. подробнее: Погодин М. О частной жизни князей в древности // Московитянин. 1853. № 11 (июнь). Кн. 1. С. 66–67; ПСРЛ. Т. II. С. 443. Под 1187 г.
).
Сравнительно долго (почти до XIV века) держалась на Руси традиция давать некоторым детям не «отчества», а «матерства» (Олег Настасьич, Василько Маринич), так как родство по матери считалось не менее почетным, чем родство по отцу. [201] См., напр.: ПСРЛ. Т. II. С. 432. Под 1136 г. Родственниками по матери, выдвинувшимися на крупные государственные посты в X в., были Олег и Игорь Старый, Добрыня и Владимир Святославич. Значимость материнского родства, возможно, следствие скандинавских влияний. См.: Пчелов Е. В. Скандинавская женщина в сагах и русская княгиня в летописях // Национальный эрос в культуре. М., 1995. С. 48–52.
Так ощущались отголоски матриархальной ориентированности семейно-родового сознания, и вместе с тем это была форма проявления уважения к матери и женщине в обыденной жизни, аналоги которой трудно обнаружить в Западной Европе.
Выросшие сыновья, как правило, оставались жить в родительском доме. По свидетельству литературных и эпистолярных памятников они старались платить матерям той же любовью и заботой, которую получали в детстве. Уже один из самых ранних дидактических сборников — Изборник 1076 года — содержал требование беречь и опекать мать. Постепенно этот постулат православной этики стал нравственным императивом и народной педагогики. «Моральный облик» выросших детей стал определяться их заботой о матери — больной, немощной, «охудевшей разумом» в старости. В источниках можно найти немало примеров мудрого благословения матерью повзрослевших сыновей, что доказывает сохранявшуюся эмоциональную зависимость детей от матери, взаимосвязь их личных переживаний не только в детстве, но и на протяжении всей жизни. [202] ПоТОМ. С. 113; ПДРЦУЛ. СПб., 1897. Вып. III. С. 126, 127; Даль 2 . Т. II. М., 1956. С. 308; ПСРЛ. Т. VI. С. 195, 224, 231, 235.
Читать дальше