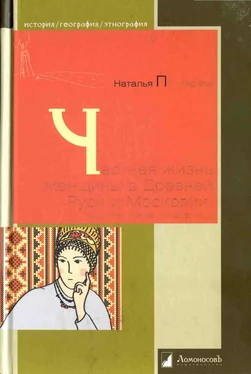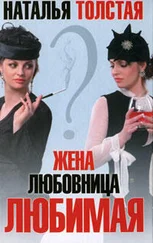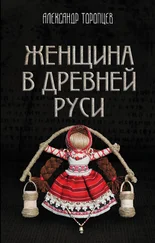Приведенные примеры косвенно свидетельствуют о предпочтении, отдаваемом сыновьям перед дочерьми еще в домонгольское время. В дидактических текстах XIII–XIV веков можно встретить уже иную, личностно-эмоциональную мотивацию предпочтений родителей: «Матери боле любят сыны, яко же могут помагати им, а отци — дщерь, зане потребуют помощи от отец». [191] Пчела. С. 222; Даль 2 . С. 384; Слово некоего христолюбца о покорении и послушании. XIII в. // Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. Сборник ОРЯС. Т. 82. СПб., 1907. С. 113.
Но, по-видимому, отнюдь не такие, личностные, а именно экономические причины рождали «власть родителей над детьми» в раннесредневековой Руси. Вопрос лишь в том, переходила ли она во всех семьях в тот «слепой деспотизм без нравственной силы», о котором писал когда-то Н. И. Костомаров, а вслед за ним нынешние западные исследователи «истории детства» в России? [192] Дети не имели права жаловаться на родителей. Это неравенство было устранено только в 1716 г. См.: Семенова Л. Н. С. 118–119. См. также: Dunn P. «That Enemy was the Baby»: Childhood in Imperial Russia // The History of Childhood. Ed. by L. de Mause. New York; London; San Francisco, 1974. P. 388.
Анализ письменных и фольклорных памятников позволяет утверждать, что подобный вывод не вполне точен. Тенденции «небрежения» детей, особенно девочек, в средневековой Руси постоянно (с X века) противодействовала воспитательная работа «отцов духовных», стремившихся утвердить среди прихожан идеалы христианской нравственности, «благочестивого родительства», материнской любви; при этом резко осуждались любые попытки матерей избавиться от детей.
Попадание на страницы епитимийных сборников целого списка вопросов и наказаний детоубийцам и «женкам, еже в утробе имеют, а родити не хочут», говорит не только о сравнительной распространенности таких случаев, но и об осуждении подобного поведения со стороны церковных дидактиков. Легко представить себе, как измученные частыми родами женщины вставали перед дилеммой — рожать или не рожать очередное чадо и, приняв отрицательное решение, обращались с просьбами «отъять плод» к знахаркам: именно они знали различные «зелья», от которых женщина могла «извергнуть» при небольших сроках беременности; лечебники же — даже поздние — не упоминают их составов, вероятно, «секреты» такого рода передавались изустно. Но за сугубо интимным решением и действиями женщин пристрастно наблюдал глаз «отца духовного», каравшего за все, что «чрез естьства совершено быша», как за детоубийство («аще зарод еще» пять лет епитимьи, «аще образ есть» — семь лет, «аще живое» — пятнадцать лет поста и покаяний). Тем не менее частота упоминаний об абортах и «извержениях» говорит о том, что интимная сторона жизни женщин того времени более регулировалась ими самими, нежели церковными деятелями. Аборт и позже, в петровское время, был главным средством регулирования рождаемости. [193] Беседа. С. 492; Сборн. рукопись 1482 г. // РО РНБ. Кир. — Бел. монастыря № 6/1083. Л. 97; Об употреблении в русских крестьянских семьях каких-либо иных методов контрацепции, кроме абортов и зелий, нет данных (Минх Н. А. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890. С. 13). Никаких противозачаточных тампонов, кондомов из бычьих кишок в Московии, да и позже известно не было.
Исповедники подробно выспрашивали у прихожанок, «[с]колико убили в собе детей», выполняя тем самым роль посредника между частной жизнью индивида и интересами государственного значения.
Об отношении мужей к вопросам контрацепции, сохранения или избавления от беременности сведений в русских епитимийниках и других источниках нет, что и отличает частную жизнь древнерусских женщин от жизни их западноевропейских современниц. Безразличие мужей к здоровью беременных жен характеризуют епитимьи, налагавшиеся на них в том случае, если выкидыши у их жен случались от побоев домашних («аще муж, риняся пьян на жену, дитя выверже»). Подобные случаи избавления от ребенка для женщин наказуемыми не были: церковь, хорошо осведомленная о нюансах супружеских отношений, в таких случаях в них не вмешивалась — ни в X–XV веках, ни позднее. [194] Закон о казнех. XIII в.// Павлов А. С. Книги законныя, содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы. СПб., 1885. Ст. 56. С. 75. Levin Е. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs. 900-1700. Bloomington, 1989. S. 175–178; Вопросы и ответы пастырской практики. XVI в. // РИБ. Т. VI. С. 862. Ст. 28;. В судебных делах конца XVII в. можно встретить жалобы жен на битье мужей (РГАДА. Ф. 159. Дела новой разборки. Д. 1351. Л. 58. (1697 г.).
Читать дальше