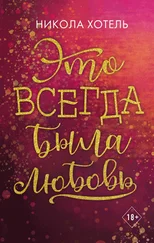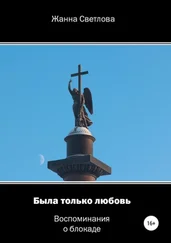Эстуся, которая меня опекала после маминой смерти, мать моего одноклассника Рубина, жена очень богатого зубного врача, жила на Павьей, 1. Она осталась одна: ее муж и сын, как другие мужчины, в сентябре убежали из Варшавы. А я считал себя важной персоной — ведь я печатал «Бюллетень»! — и к ней не заглядывал. Но однажды зашел и застал только няню Рубина. Кабинет господина доктора содержался в идеальном порядке. Зубоврачебное кресло, бормашина — все аккуратно закрыто белыми простынями. Я спросил у няни, где Эстуся, и она мне сказала, что пани Эстуся каждое утро уходит из дома и возвращается перед самым комендантским часом. Больше я туда не заходил, да и Эстуся меня не искала. Я даже удивлялся, почему не ищет, но вот, не искала. Красивая была женщина, среднего роста, всегда очень элегантная. В гетто я, можно считать, ее и не видел.
Кажется, это было после второй акции, январской. Не помню, почему я оказался на Вроньей. Поднялся на чердак, а там, на полу, на сенниках вповалку лежат люди. Среди них я увидел Эстусю. Она лежала на сеннике. Какой-то мужчина поил ее то ли чаем, то ли горячей водой. Я ей говорю: «Послушайте, на арийской стороне есть квартира. У вас много денег, вы можете выйти. — Тогда считалось, что так удастся выжить. — Вам хватит до конца войны». Ей явно не очень-то и хотелось со мной разговаривать. Сказала только: «Нет, я останусь с ним. Может, и здесь как-нибудь продержимся или вместе погибнем. Я никогда не была так счастлива в любви, как эти четыре года. Потому тебя и не искала». — «Пани Эстуся, это же исключительный шанс», — настаивал я. В точности я ее слов не помню, но звучал ответ примерно так: «Моим шансом были эти четыре года, и я им воспользовалась».
Если б я помнил, как ее звали…
У нее было двое детей, близнецы, две девочки. Одна худющая как щепка, а вторая, в мать, — кругленькая, толстощекая. Она была учительница. Муж в Лондоне, деятель. До войны был то ли председателем, то ли секретарем еврейской молодежной организации. Это он присутствовал при аресте Эрлиха и Альтера в Куйбышеве. Мы считали своим долгом спасти его семью. Владка Пельтель, главная связная Леона Файнера, нашла для всей семьи очень хорошую квартиру. Как было дело, мне уже после войны рассказала одна из близняшек — сам я почему-то не запомнил.
В тот день, когда стемнело, я пришел за ними. Отвел к стене на Свентоерской и без труда перебросил детей на другую сторону. Подставлялась лестница, по ней поднимались наверх, и потом оставалось только спрыгнуть. Если внизу не ждал кто-нибудь, чтобы помочь, можно было, как Стася, вывихнуть ногу. Но их ждала приятельница, которая благополучно подхватила сестричек. Истинное чудо, что в этот момент в этом месте не оказалось шмальцовников [28] Шмальцовниками во время немецкой оккупации Польши называли людей, которые вымогали у скрывающихся евреев и помогающих им поляков деньги, угрожая донести на них оккупационным властям.
. Настал черед матери. И тут она говорит, что никуда не пойдет. Уже год у нее кто-то есть, и это самый счастливый год ее жизни. И осталась. Стояла рядом со мной до тех пор, пока девочки не помахали ручками из окна на арийской стороне, как мы условились. Утром Владка отвела их в заранее приготовленную квартиру, где они прожили всю оккупацию. Но после войны у меня с ними было много хлопот. До отъезда к отцу они жили у подруги матери, от которой то и дело убегали ко мне.
А их мать я встретил один раз во время последней акции, то есть, как сейчас говорят, во время восстания в гетто. В бункере на Налевках, когда мы искали Целину, которая по дороге на Милую свалилась в подвал, открылся какой-то замаскированный проход, и я увидел ее и того самого мужчину, ради которого и с которым она осталась. Красивый, стройный, с мягкими чертами лица, он стоял и держал ее за руку. «Теперь я ничем не могу вам помочь», — сказал я ей. Она спокойно на меня смотрела, а по лицу ее блуждала безотчетная улыбка. «Мне от тебя ничего не нужно. Это был самый счастливый год в моей жизни».
А вернее, часть Кармелицкой: от улицы Лешно, где она начинается, до скверика на пересечении Мыльной и Новолипок. Дальше Кармелицкая еще пересекает Новолипки и заканчивается на Дзельной, почти напротив тюремных ворот. По Кармелицкой надо идти, чтобы попасть в малое гетто. Людской поток почти со всего гетто движется по Дзельной от Заменгофа, по Новолипкам и Новолипью. Улица узкая. За сквериком на Мыльной уже тесно. В течение всего дня туда и обратно перемещается масса народу. Толпа заполняет тротуары и всю мостовую. Если хочешь добраться до малого гетто, приходится продираться, протискиваться сквозь толпу, расталкивая людей. Шум страшный, все кричат. И так до пересечения с Лешно. Тут внезапно становится просторнее. Улица Лешно шире, чем Кармелицкая. Толпа редеет. Теперь нужно свернуть направо на Лешно, потом налево на Желязную, пройти вдоль перерезающей улицу стены и подняться на мост, переброшенный над арийской частью Хлодной, — тогда попадаешь в малое гетто.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






![Виктория Витус - И еще была любовь [litres самиздат]](/books/437537/viktoriya-vitus-i-eche-byla-lyubov-litres-samizdat-thumb.webp)
![Никола Хотель - Это всегда была любовь [litres]](/books/437939/nikola-hotel-eto-vsegda-byla-lyubov-litres-thumb.webp)