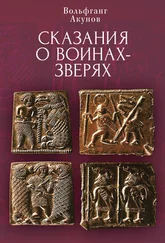В разных списках «Книги» Марко Поло имя этого полководца каана Хубилая варьируется: «Абатан», «Абакан»; в японских источниках он именуется «Асикан».
В разных списках «Книги о разнообразии мира»: «Вонсаничин», «Жусаинпшн». В японских источниках он именуется «Фанбунко». В хрониках татаро-монголо-китайской династии Юань среди полководцев второго военно-морского похода юаньцев на Япопию (1281) упоминаются А-Цзе-хань. (Ngo Tsu-han) — вероятно, он и есть «Асикан», и Фань-Вэнь-ху (Fan Wcn-hu) — вероятно, «Фанбунко» японских хроник.
Сначала воины экспедиционного корпуса каана Хубилая высадились на японском острове Хирадо (у северо-западной оконечности острова Кюсю), а оттуда, через узкий пролив Хирадо, перешли на остров Кюсю.
В одном из вариантов «Книги о разнообразии мира» Марко Поло говорится: «Эго произошло оттого, что оба начальника войска ненавидели друг друга и питали друг к другу большую зависть; спасшийся начальник не сделал никакой попытки вернуться к своему товарищу, оставшемуся на острове, как вы слышали; и он мог бы вернуться, когда прошел ветер, продолжавшийся недолго. Но он этого не сделал, а отправился прямо к себе на родину. Знайте, что остров, куда высадились спасшиеся, был необитаем, и не было там ни одною создания, кроме них».
Весь этот рассказ Марко Поло о выходе «Непобедимой армады» каана Хубилая на завоевание Японии из китайских, а не из корейских, портов, о взятии столицы японского «большого острова» потерпевшими кораблекрушение воинами Великого хана, об осаде этой столицы японскими войсками и т. д., содержащийся в «Книге о разнообразии мира», не подтверждается ни юаньскими, ни корейскими, ни японскими историческими источниками.
В действительности первая попытка каана Хубилая с помощью военной силы подчинить Японию власти империи Юань относится к 1274-му, вторая (и последняя) — к 1281 году. А вот в указанном Марко Поло 1269 году никакого татаро-монголо-китайско-корейского нашествия на Японию ни монголо-татаро-китайскими, ни корейскими, ни японскими хронистами засвидетельствовано не было.
Как уже упоминалось выше, согласно японским источникам, главными полководцами каана Хубилая были «Асикан» (А-Цзе-хань) и «Фанбунко» (Фань-Вэнь-ху). «Асикан» тяжело заболел в ходе экспедиции, и главным начальником стал «Фанбунко».
Как уже упоминалось выше, обычно нагинату именуют «японской алебардой», хотя в действительности она гораздо больше походит на другое дрсвковое оружие — глефу. Так мы и будем ее далее называть.
Или кожи.
Самые богатые представители самурайского сословия могли позволить себе даже ножны для своих мечей, обтянутые драгоценной шкурой тигра (но таких «военных щеголей» были буквально единицы).
Согласно некоторым источникам, отдельные образцы огнестрельного оружия еще до прибытия португальцев попадали на Японские острова из Китая, по особого впечатления на сынов Ямато не произвели и попыток подражания у японцев не вызвали (видимо, вследствие своего технического несовершенства).
Японские буддийские монахи носили и еще два вида головных уборов, белого цвета, один из которых напоминал нечто среднее между беретом и ближневосточной куфией (кефи), а другой — мусульманский хиджаб, оставлявший открытым только глаза (головной убор, аналогичный последнему из перечисленных, но только не белого, а черного цвета, носили и японские «ниндзя», или «воины-тени», о которых будет рассказано далее).
Глава римско-католического клерикального ордена иезуитов (или, на латыни, Societas Jеsu, то есть «Общества Иисуса») официально именовался (и именуется по сей день) «генералом», (а неофициально — «черным папой»).
«Амен!» — латинский вариант формулы «Аминь!» (др. — евр. «Да будет так!») — этот эпизод вошел в знаменитый художественный фильм Акиры Куросавы «Кагэмуся» («Тень воина»).
По другим данным, последнее событие произошло в 1573 году.
Согласно другим источникам — 1537.
Нобунага Ода оставил после себя пятерых сыновей, и судьба всех его отпрысков была одинаково печальной…
В перерыве между двумя этапами Корейской кампании (когда появилась надежда на заключение выгодного для Страны восходящего солнца мирного договора с империей Мин) японское военное командование решило продемонстрировать ее результаты остававшимся в Японии соотечественникам. С этой целью на уцелевшие в морских сражениях с корейским флотом японские корабли погрузили всю военную добычу. Заодно хотели погрузить и головы, отрубленные у врагов на поле брани. Однако, с учетом ограниченной вместимости кораблей, было принято решение везти не головы, а лишь отрезанные от этих голов уши и носы. Возвращение в Страну восходящего солнца происходило в конце сентября 1597 года (в разгар местного лета, со средней температурой не ниже тридцати пяти градусов Цельсия). При такой погоде и в отсутствие холодильников часть «наглядных доказательств самурайской доблести» испортилась и была выброшена на корм рыбам. Но даже оставшееся количество при пересчете оказалось принадлежавшим примерно тридцати восьми тысячам (!) корейцев. Когда «боевые холопы» вернулись на родину, выяснилось, что отправивший их на покорение Кореи «тайко» Хидэёси Тоётоми переселился в лучший мир. И тогда все эти тысячи «трофейных» ушей и носов были погребены совсем недалеко от свежей могилы вдохновителя самурайской интервенции. Погребение сопровождалось установкой на погребальном холме памятного столба в форме каменной пагоды, в соответствии с буддийскими традициями. Одни считают, что этот знак — предупреждение всем, кто когда-либо в будущем решит сопротивляться божественным сынам Ямато. Другие — что речь идет о своеобразном выражении уважения к погибшим, поскольку далеко не все из этих ушей и носов принадлежали неприятельским воинам (часть их была отрезана от голов представителей гражданского корейского населения, и даже не в ходе боевых действий).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
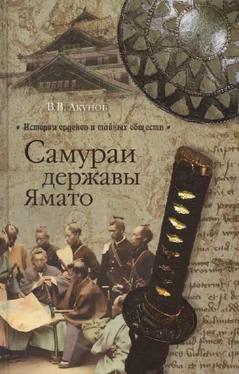
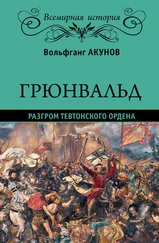

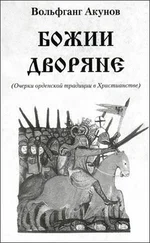
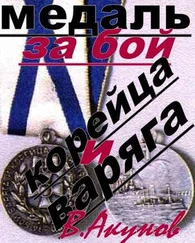



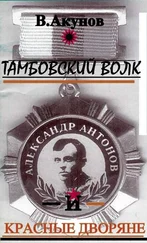

![Вольфганг Акунов - Держава Тевтонского ордена [litres]](/books/431069/volfgang-akunov-derzhava-tevtonskogo-ordena-litre-thumb.webp)