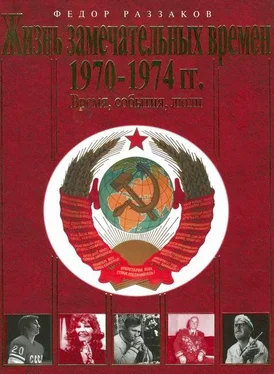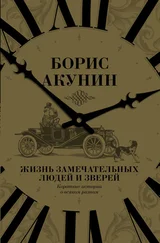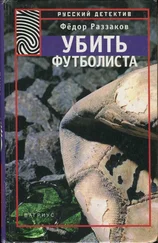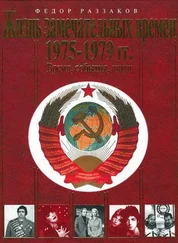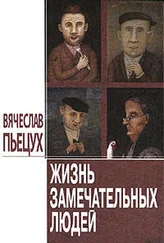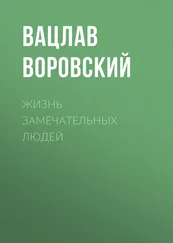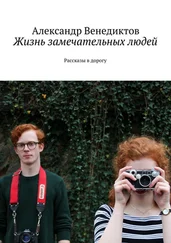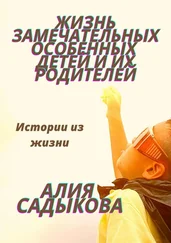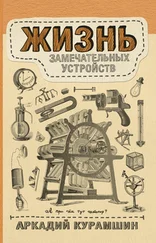«На следующий день в назначенное время я стоял перед дверью квартиры Галича. На мой звонок никто не ответил. Позвонил второй раз. Тишина. Я постоял немного и, поборов волнение, позвонил еще раз. Дверь мне открыла очень сердитая женщина. Просверлив меня глазами, она спросила:
— Чего это вы звоните?
— Здравствуйте, я Володя Ямпольский, я из Якутии, я к Александру Аркадьевичу, он мне разрешил прийти к двум часам, — залепетал я под ее взглядом.
— Ну и заходите! Трезвонить-то зачем?
И она несколько отступила от двери.
Вышел Александр Аркадьевич. Мы поздоровалась. Он познакомил меня с Ангелиной Николаевной, и она, сославшись на самочувствие, ушла к себе.
Мы прошли в комнату Галича. Сели…
В общем-то, мне от Галича ничего не было нужно. Ни автографа, ни помощи в получении записей или приглашения на его выступления. Не было у меня и мысли об установлении каких бы то ни было отношений. У меня было одно лишь желание: просто посмотреть один раз вдоволь на Галича. И все!..
Приблизительно все это я и сказал Галичу. Рассказал и о нелепом слухе о его смерти — откуда он мог появиться?! Александр Аркадьевич успокоил меня: слухи о его смерти ходят часто, что нашло отражение в нескольких песнях. Эти песни я знал.
Александр Аркадьевич расспрашивал меня о моей работе, семье, о Якутии. Великолепно, с неподдельным вниманием слушал…
Ну что ж, моя программа выполнена полностью. Моя многолетняя мечта сбылась самым прекрасным образом, пора было и уходить. Я не утерпел и спросил Галича:
— Александр Аркадьевич, а почему меня отчитала Ангелина Николаевна за то, что я звонил, прежде чем войти в ваш дом?
— Ну как вам сказать… Просто, когда мы дома, двери у нас никогда не заперты.
— И ночью?
— И ночью. Друзья, которые бывают у нас, знают об этом и никогда не звонят.
— А если не друзья?
— Тем более. Знаете, сама мысль, что кто-то будет звонить, стучать, ломиться в дверь, настолько отвратительна, что мы решили дверь никогда не запирать…»
22 июня в газете «Вечерняя Москва» появилась заметка «Из зала суда» о подпольном дельце, промышлявшем скупкой и перепродажей антиквариата. Подобные заметки в те годы пользовались огромной популярностью у читателей, поскольку позволяли обывателям хоть изредка, но взглянуть на изнанку жизни. Это теперь мы, что называется, объелись криминалом, а тогда все было иначе.
В заметке речь шла о некоем дельце, который ездил в крупные города Союза (в частности, в Таллин), скупал там по дешевке картины (15–20 рублей), а в Москве сдавал их в коммиссионки по 80 рублей и выше. Например, картину западного художника Диаза «Перед грозой» он купил за 45 рублей, ловко выдал ее за шедевр и продал в Казахскую картинную галерею за 4500 рублей! Здорово прокололись с ним и другие крупные учреждения: так, Тюменский музей купил у него 15 дешевых полотен за весьма внушительную сумму в несколько тысяч рублей, Кисловодский — 12. Однако вечно деятельность дельца продолжаться не могла, и его в конце концов схватили. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Между тем в июне во всех учебных заведениях страны закончились выпускные экзамены, и миллионы школьников и студентов отправились кто куда: кто-то на каникулы, чтобы в сентябре вновь сесть за парты, а кто-то навсегда покинул стены родной школы или вуза.
Известный ныне киноактер Владимир Гостюхин тем летом закончил ГИТИС и был распределен в драматический театр Липецка. Он был безвестным молодым актером, сыгравшим всего лишь одну крохотную роль в кино: в картине «Был месяц май», премьера которого по ЦТ состоялась чуть больше месяца назад.
Совсем иначе обстояли дела у выпускницы того же ГИТИСа Ольги Остроумовой. Она попала в труппу столичного ТЮЗа. А все потому, что уже считалась известной актрисой, поскольку еще на втором курсе сыграла одну из главных ролей в кинохите Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» (1968).
Другая звезда отечественного кино — Елена Соловей — закончила ВГИК и была приглашена в труппу Малого театра. Она тоже уже имела за своими плечами несколько ролей в кино, самой известной из которых была роль Беатриче в фильме Павла Арсенова «Король-Олень» (1969). Однако из Малого она ушла так же стремительно, как пришла. Вот ее собственный рассказ об этом:
«Иннокентий Михайлович Смоктуновский, который ко мне очень нежно, по-доброму относился, должен был играть царя Федора Иоанновича. Думаю, он что-то сказал обо мне режиссеру Борису Равенских. В результате я получила приглашение, от которого совершенно оторопела. Равенских это заметил и предложил: «Напишите заявление, а потом будете думать». Я написала: «Прошу принять в театр», вздохнула с облегчением и вскоре почти забыла об этом. И вдруг звонит Борис Андреевич Бабочкин (он ведь тоже был актером Малого) и говорит: «Лена, на сбор труппы идешь? Ты же в наш театр принята!» Заехал за мной, вытащил на свет божий и даже представил коллегам. «Чайку, — говорит, — для тебя поставлю. Что еще хочешь?..» Но я всегда боялась совершать серьезные поступки, а тут еще мое назревающее замужество, которое означало переезд в Ленинград…» (Своего будущего мужа — художника кино Юрия Пугача Соловей встретила все тем же летом 70-го, когда снималась на «Ленфильме» в уже упоминавшейся комедии «Семь невест ефрейтора Збруева».)
Читать дальше