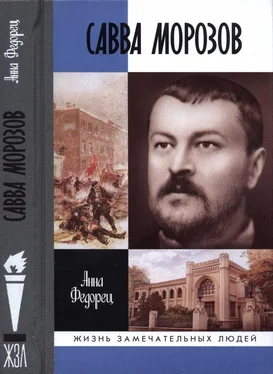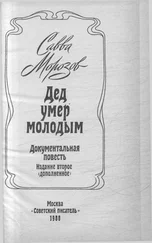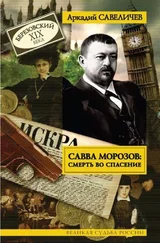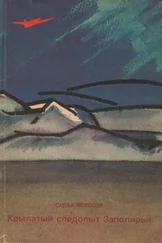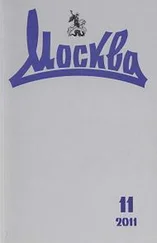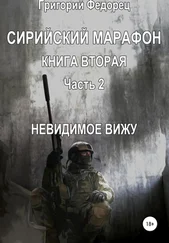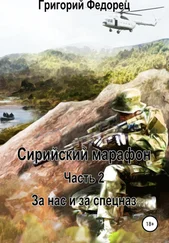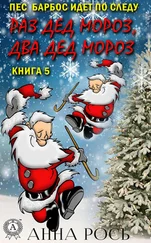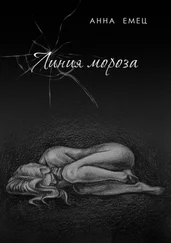Константин Алексеевич писал о встрече в Москве очередного Нового года: «Новый год в России ждали, встречали торжественно и радостно. К Новому году получались награды, повышения по службе, раздавались ордена за службу отечеству. В день Нового года делали визиты, ездили на санках, санки весело поскрипывали по мерзлому снегу. Визитер всегда был в новом костюме с иголочки, причесанный, надушенный, всегда радостный и веселый. Поздравлял, расплываясь в доброжелательной улыбке: «С Новым годом, с новым счастьем вас»… Однажды мой приятель, несколько желчный человек, спросил одного визитера, Колю Хитрова, молодого человека с красными не в меру губами:
— Скажите, — говорит, — дорогой, с каким это вы меня новым счастьем поздравляете?
… Коля Хитров растерялся и только мог сказать:
— Везде так говорят в Новый год, так принято.
— Мало ли говорят неприличных вещей, а вы повторяете, — строго сказал Петр Васильевич. — Остерегайтесь!
… Проезжая Пречистенкой, [Коля Хитров] подумал: «Заеду к Савве Тимофеевичу, поздравлю». Приказал извозчику подъехать к подъезду. Слез с саней и вбежал в подъезд особняка.
Савва Тимофеевич такой радостный, лицо веселое, гости, на столе бутылки. Коля шаркнул ножкой и поздравил хозяина дома с Новым годом, а про новое счастье умолчал.
— Ох, — говорит хозяин дома Коле Хитрову, — с Новым годом… А что такое Новый год, что в нем, чего ждать? Вот если бы новое счастье вышло, ну тогда… Хотя что это такое за новое счастье — никто и не знает… Вот сегодня поутру ко мне приехал артист, дорогой Михаил Провыч (Садовский. — А. Ф.). Я его и спросил: «Вот скажи мне, дорогой, что это такое за новое счастье такое, которое все в Новый год сулят, — есть ли оно?»
Задумался Михаил Провыч и сказал мне:
— Есть.
— Какое такое? — спрашиваю я у него.
А он: «Это, — говорит, — не иначе, как интеллигентная содержанка».
«Вот, — думаю, — до чего верно, — прямо меня по сердцу шаркнуло. — Верно». Я ему говорю:
— Вот уж я, дорогой друг, давно ищу интеллигентную содержанку. Трудно — не найдешь. Думаешь, нашел, интеллигентная… а потом видишь — нет, енот. Нет этой самой изюмины-то интеллигентской, нет. Да и он согласился, что трудно. Таких сколько хочешь, а вот интеллигентную — трудно найти». [303] Коровин К «То было давно… там… в России…»: Воспоминания, рассказы, письма. В 2 кн. Кн. 2. М., 2012. С. 14–16.
Впоследствии эта «изюмина», которую так искал Савва Тимофеевич, обойдется ему очень дорого…
Вероятно, семейный разлад произошел в первой половине 1897 года, а его причиной стал инцидент со шлейфом, когда Зинаида Григорьевна нарушила придворный этикет и, сама того не желая, способствовала краху карьеры мужа. Следует оговориться: это лишь предположение, подтвердить его точными указаниями источников нельзя. Тем не менее ясно: еще до того, как Морозов увлекся Художественным театром, его брак дал трещину. Дело, видимо, даже не в том, что он обиделся на жену за свое фиаско. Просто вдруг почувствовал, что больше не может на нее опереться. Страсть между ними давно остыла — слишком много лет прожито вместе. Любви, какая иногда бывает между мужем и женой и которой они согревают друг друга, у Морозовых не было. Было своего рода товарищество, основанное на соревновании двух честолюбий — вещь хорошая до тех пор, пока по одному из честолюбий не нанесен серьезный удар. Вне супружеского ложа Зинаида Григорьевна была человеком холодным, не щедрым на эмоции. Постепенно Морозова стал утомлять этот холод, дополняемый холодным блеском показной роскоши. Он вдруг ощутил, что Зинаида Григорьевна превратилась в чужого ему человека, что она живет собственными интересами, которые мало пересекаются с интересами мужа. А Савве Тимофеевичу, как никогда, было необходимо душевное тепло… Искать его он стал за пределами дома.
Иными словами, в конце 1890-х годов Морозов принял решение свернуть с прямого пути. Там, где у него что-то не ладилось — в общественной ли деятельности, в общении ли с государством или в собственной семье — он шел в обход, и пути его были лукаво-извилисты.
Единственная жизненная задача, от выполнения которой Савва Тимофеевич не отказался в конце 1890-х годов, — руководство семейным предприятием. Отойдя от общественной деятельности, Савва Тимофеевич направил всю свою энергию на Товарищество Никольской мануфактуры, вернее — на существующие при ней вспомогательные производства. По словам современников, «для того, чтобы поставить мануфактурное производство на высоту, он совершал несколько раз заграничные поездки, где знакомился со всеми техническими новинками». [304] Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 637. On. 1. Д. 97. Л. 88.
Читать дальше