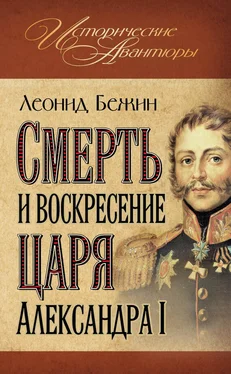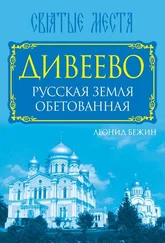Участливо, охотно, но вскоре я почувствовал, что разговор затухает. Затухает, как костер под дождем: погорел, потрещал, подымил – и затух. И сколько ни подкладывай сухие ветки, ни подсовывай скомканную бумагу, ни раздувай пламя – снова не вспыхнет… Я забеспокоился, встревожился, заметался: что же делать? Спросить напрямую? Мол, я слышал, что у вас… рубашка… старца Феодора Козьмича… Нет, напрямую нельзя, ангел предупреждал не напрасно. Прямой вопрос может насторожить, внушить какие-то подозрения. Надо ждать, и я терпеливо жду, а в разговоре уже возникают зловещие долгие паузы, обязывающие меня встать, поблагодарить за гостеприимство и с прощальным поклоном произнести: «Наверное, мне пора». Хозяйка же должна будет ответить: «Ну что вы! Что вы!» – и тоже встать, своим обреченным видом показывая, что удерживать меня она не вправе. Так она проводит меня до дверей, и мы простимся. Простимся, и я никогда…
Но тут блеснула на солнце медь: это ангелы вскинули трубы. Евгения Александровна сделала мне знак, что ей нужно на минуту отлучиться, и исчезла за занавеской. Исчезла и зашуршала там бумагой, словно что-то разворачивая, что-то доставая. Доставая очень бережно и аккуратно, как некую драгоценность, реликвию… Я замер, вслушиваясь в эти звуки: только бы не обмануться. Только бы это оказалось тем предметом, ради которого я приехал! И вот еще минута, и Евгения Александровна выносит из-за занавески портрет Феодора Козьмича – тот самый, знаменитый, с прижатой к груди ладонью и заложенным за поясок большим пальцем левой руки. Но только я знал его по позднейшим копиям, а это очень ранняя, старинная, на пожелтевшей фотографической бумаге.
Портрет спрятан под стекло и вставлен в раму – кем? Быть может, самим Семеном Феофановичем Хромовым или Иваном Григорьевичем Чистяковым, людьми трезвыми, основательными и отнюдь не легковерными, не падкими до россказней и слухов. Уж они-то взвешивали каждое услышанное слово, прежде чем принять его на веру, но портрет хранили не только как реликвию, но и как святыню. Хранили сами и детям строго завещали хранить. Значит, знали, кто такой старец Федор Кузьмин. Знали и даже более того – были твердо убеждены и служили этому убеждению как своему купеческому делу, которое надо двигать вперед и распространять вширь, вовлекая в него как можно больше людей. Собственно, в этом и смысл письма Ивана Григорьевича: дело двинулось… уже открыто говорят…
Показав мне портрет и испытав чувство законной гордости за свою реликвию, Евгения Александровна снова исчезла за занавеской, и вот тут-то я приготовился… Приготовился даже не к встрече с предметом… ради которого… а к тому, что сейчас произойдет нечто, не совпадающее с предметным миром, с теми вещами, которые нас окружают (цветами, фотографиями, вазочкой, кружевными салфетками), и с нами самими, – не совпадающее и иное, как бывают иными по отношению к нам события, уже свершившиеся в истории, но посылающие нaм некие призрачные свечения, смутные отзвуки, неясные отголоски, как будто они до сих пор свершаются рядом с нами. И события, и люди – такие, как Александр Благословенный, чьим присутствием словно бы овеяло меня в тот момент, когда Евгения Александровна развернула передо мной длинную и необыкновенно широкую полотняную рубаху с небольшим разрезом сверху и прорезью для пуговицы.
Да, да, овеяло присутствием, как будто он вошел – незримо, бестелесно, но это был именно он, высокий, статный, физически сильный и духовно просветленный старец, о котором другой просветленный сказал в «Розе мира»: «Детской дерзостью была бы попытка догадываться о том, какие дали «миров иных» приоткрывались ему в последние годы и в какой последовательности постигал он тайну за тайной». Развернула рубаху, а затем достала вязаную шапочку – коричневатую с желтыми полосками, – и вновь возникло чувство некоего благого веяния: шапочка, покрывавшая его голову! Покрывавшая когда-то, а сейчас доносящая до нас свечение, отзвук, отголосок. И шапочка, и засохшая губка – все, что осталось от Александра и к чему мне удалось прикоснуться, притронуться, – мне, человеку этого времени и пространства, изумленно застывшему перед далями «миров иных». Удалось волею случая, и что я мог сказать после этого – только подняться, поблагодарить и произнести решительно и бесповоротно: «Мне пора».
Я так и поступил, и хозяйка проводила меня до дверей, я спустился с крылечка, открыл калитку, и на этом закончилось мое путешествие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу