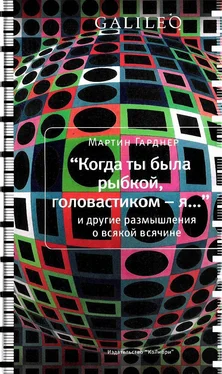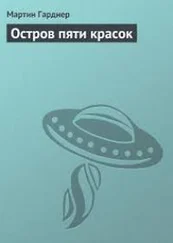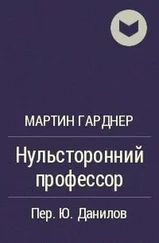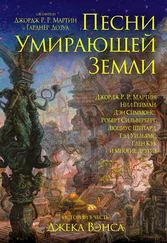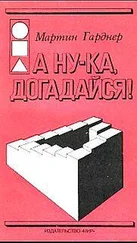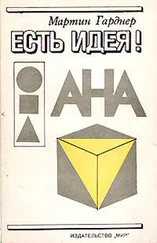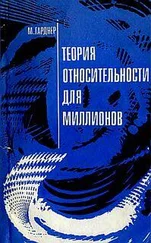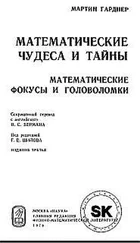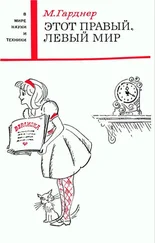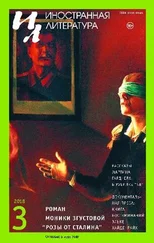Вторая легенда повествует об Идоменее, царе Критском. Он дает обет Посейдону, что если благополучно вернется домой из Трои, то принесет в жертву первое живое существо, какое встретит по возвращении. Этим существом оказывается его сын. Идоменей совершает убийство, однако боги карают Крит ужасной моровой язвой, и его соотечественники изгоняют его.
Оба мифа кажутся мне все-таки не такими кощунственными, как легенда о дочери Иеффая. Артемида оказалась милосерднее Иеговы, а критяне — милосерднее народа израильского. Следует отметить, что в традиционном иудаизме Иеффай подвергается суровому осуждению, и в иудейских преданиях говорится, что он был наказан ужасной смертью. В пятой песни Дантова «Рая» Беатриче уподобляет преступление Иеффая деянию Агамемнона и порицает их обоих. Подобные же мнения высказываются в многочисленных трагедиях, основой для которых стала история Иеффая, а также в опере Генделя. На полотне Джона Милле, викторианского живописца, Иеффай изображен погруженным в глубокие раздумья, а простодушная дочь его утешает. Мне кажется, эта картина столь же нелепа, как стихотворение Байрона «Дочь Иеффая», в финале которого девушка говорит: «Вспоминай иногда, мой отец, / Что с улыбкой мной встречен конец!»*
Остается лишь поражаться умонастроениям тех христианских комментаторов, которые превозносили «веру» Иеффая, как будто его безумное доверие Иегове отчего-то больше заслуживает восхищения, чем доверие Агамемнона и Идоменея своим богам. Некоторые толкователи даже считают Иеффая и его дочь, как и Авраама с Исааком, своего рода провозвестниками Искупления Христова, особо подчеркивая, что в Молитве Иисусовой есть слова: «Не Моя воля, но Твоя да будет».
Фрэнсис Герберт БРЭДЛИ (1846–1924) — британский философ-идеалист.
Джозеф Батлер [Джозеф Батлер (1692–1752) — английский философ-моралист, теолог. Служил пресвитерианским епископом.] в своих «Основаниях религии» пишет:
На самом же деле никакое, пусть даже самое недвусмысленное, доказательство будущей жизни не может явиться доказательством религиозным. Ибо то, что нам предстоит жить и после смерти, столь же согласуется с построениями атеизма и столь же удовлетворительно может быть ими истолковано, как и то, что мы живы сейчас; а следовательно, нельзя представить себе ничего нелепее, чем попытки вывести из этих построений невозможность будущего существования.
ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР (1768–1834) — немецкий теолог, философ, проповедник.
ПЬЕР БЕЙЛЬ (1643–1706) — французский мыслитель, историософ, критик религиозных догм.
Знаменитое высказывание Канта о том, что его больше всего наполняют восторгом и трепетом звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас, пришло мне в голову, когда я наткнулся во втором томе автобиографии Бертрана Рассела на абзац, который сам Кант наверняка счел бы загадочным. Оканчивая «Теорию и практику большевизма» (1920), Рассел пытается решить, стоит ли ему публиковать эту книгу:
Высказаться в пользу большевизма означало бы, конечно, сыграть на руку реакции, и большинство моих друзей считали, что о России следует говорить лишь положительно. Однако в войну я остался глух к подобной же аргументации патриотов, поэтому теперь я счел, что в долгосрочной перспективе не будет никакой пользы, если кто бы то ни было станет держать язык за зубами. Всё еще больше запуталось из-за моих личных отношений с Дорой. Однажды летней ночью, после того как она отправилась спать, я вышел на наш балкон и уселся там, созерцая звезды. Я пытался обдумать вопрос, уйдя от жара политических страстей, и представил, будто веду беседу с Кассиопеей. И мне показалось, что взаимная гармония, царящая между мною и звездами, лишь окрепнет, если я опубликую свои мысли о большевизме. Так что я продолжил работу — и как-то вечером, накануне нашего отъезда в Марсель, завершил книгу.
Мигель де Унамуно. О трагическом чувстве жизни. Глава 8 (М., Символ, 1997).
По-видимому, основные положения аргументации, приведенной в Паскалевом пари, впервые открыто выразил Арнобий — христианский теолог, живший в Африке приблизительно в начале IV в. н. э.:
Однако верно и то, что сам Христос не доказывает своих обещаний. Ибо, как я уже сказал, не может быть абсолютного доказательства будущих событий. Но, если будущие события таковы, что их невозможно охватить никакими усилиями наших предвосхищений и ожиданий, не разумнее ли, выбирая между двумя путями, оба из которых зыбки и зависят от сомнительных предположений, отдать предпочтение тому, что питает нас хотя бы некоторой надеждой, нежели тому, который таковой надежды не дает вовсе? Ибо в первом случае не произойдет никакой беды, если наша надежда, как сказано, обернется пустотою; во втором же случае опасность весьма велика: мы лишимся спасения, о чем суждено нам будет узнать, лишь когда настанут времена, которые откроют, что все эти обещания отнюдь не были ложными.
Читать дальше