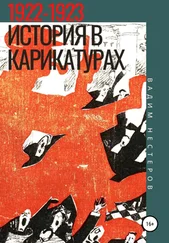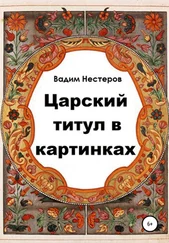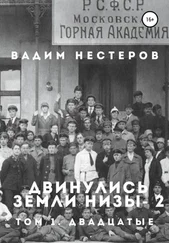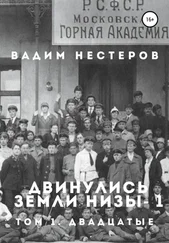За три дня осады маньчжурская артиллерия разнесла деревянные стены Албазина в щепу. Потом китайцы пошли на приступ. Заряды у албазинцев кончились очень быстро, защищались «смолой да каменьями», гарнизон потерял четверть своего состава — при штурме погибло более ста человек. Закрепится в крепости китайцам не удалось — «лочи» в рукопашной схватке действительно бились как безумные демоны, но, отходя, осаждающие подожгли стены.
Оставаться в крепости было самоубийством, и иеромонаху Гермогену с братией все-таки удалось уговорить упершегося Толбузина сдать крепость. Китайцы охотно приняли капитуляцию и даже разрешили побежденным уйти с оружием. Чего мелочиться, ведь поставленная задача — вытеснить русских с Амура, была решена ими менее чем за неделю. Более чем успешный поход.
Воевода, оставшийся без воеводства, вместе с уцелевшими ушел в Нерчинск, а крепость и окрестные деревушки китайцы сожгли. Так закончил свое существование второй Албазин.
Однако в Нерчинск ушли не все. 45 защитников Албазина китайцы увели с собой в Пекин, не иначе, как хотели предъявить императору живых демонов. Как ни странно, но именно эти несколько десятков не то пленных, не то перебежчиков (историки спорят до сих пор), оказались одним из важнейших последствий этой давно забытой войны. Именно они стали первой ниточкой, связавшей две империи, и связь эта больше не рвалась.

Албазинцев увозят в Пекин.
Картина современного китайского художника (фрагмент). Харбинский художественный музей.
Дело в том, что император очень высоко оценил мужество защитников Албазина, и сделал им предложение, от которого трудно было отказаться. Бывшие казаки-оторвы с окраины России стали личной гвардией императора сильнейшего государства тогдашнего мира. Личная гвардия императора Поднебесной состояла из восьми подразделений, так называемых «знамен», и в составе одного из них, «желтого с каймой», появилась русская рота. Это была высокая честь, китайцы, к примеру, как покоренный народ, не имели права служить в знаменных войсках, этой привилегией пользовались только маньчжуры.
Новобранцам выделили подворье во Внутреннем городе у ворот Дунчжимэнь в переулке Хуцзяцзюань, положили приличное гвардейцам жалованье, холостым даже выдали жен. Приличные китаянки, конечно, скорее удавились бы, чем пошли к волосатым демонам, но проблему решили просто — дали команду в Разбойничий приказ, и оттуда по разнарядке прислали бывших супружниц казненных преступников. И, самое главное, новым гвардейцам разрешили исповедовать свою религию. Вскоре в северо-восточном углу Внутреннего города появилась кумирня, которую русские именовали Никольской часовней, а китайцы без затей обзывали «Лочамяо». Перевод интуитивно понятен.
Сначала там служил уведенный с казаками священник Максим Леонтьев, а после его смерти наши дипломаты, напирая на загубленные души оставшихся без духовного кормления православных, продавили у китайских властей разрешение на создание Русской духовной миссии в Пекине. История этой миссии — долгий и отдельный разговор, скажу лишь, что она, кроме назначенных, выполняла также функции и посольства, и торгового представительства, и культурного центра, и исследовательского института, и разведывательного центра, естественно. Между прочим, с 1838 года, со смерти последнего католического священника в Пекине, и по 1860 год нам завидовали все европейские державы — русские оказались единственными европейцами, имевшими право проживать в столице Поднебесной.
Помню свое удивление, когда я узнал, что албазинцы существуют в Китае до сих пор. Потомки этих казаков за три столетия, конечно же, полностью окитаились, но сохранили православие и стали, по сути, субэтнической группой. Позапрошлым летом я даже познакомился с одним из них. Дело в том, что после смерти последнего православного священника в Китае, настоятеля харбинского храма отца Александра Ду, китайские власти категорически не позволяли Русской православной церкви прислать нового. Потом нашли компромисс — 15 гражданам КНР разрешили уехать в Россию для обучения в семинариях и принятия сана. С одним из них, молодым парнем, учившимся тогда в Московской семинарии, меня и познакомила бывшая студентка моей жены. По-русски он говорил неважно, но первым же делом объяснил, что фамилия его — Дэ, но на самом деле так просто переделали фамилию его предков, а по правде он Дубинин. Сколько столетий прошло, а иди ж ты…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
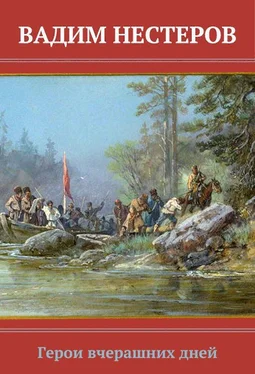

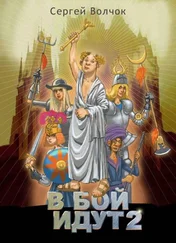



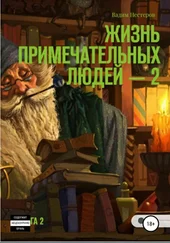
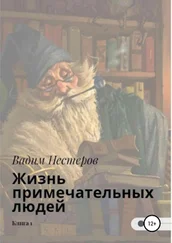
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/430230/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si-thumb.webp)
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 2 [СИ]](/books/434164/vadim-nesterov-kuda-idem-my-2-si-thumb.webp)