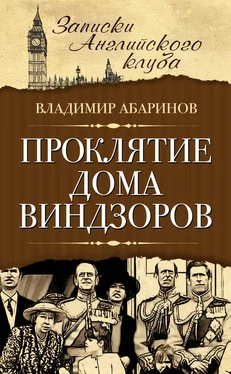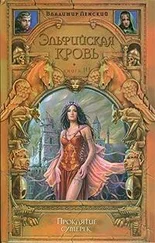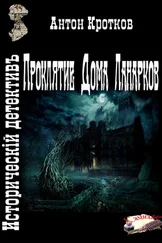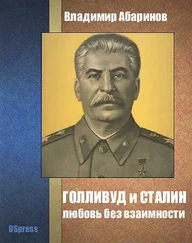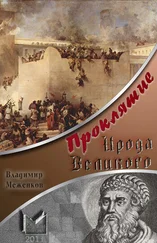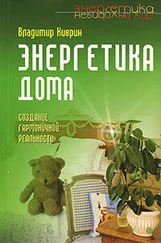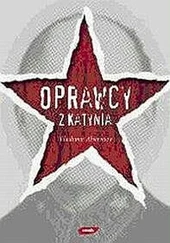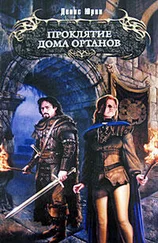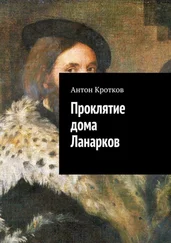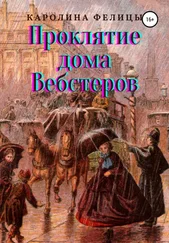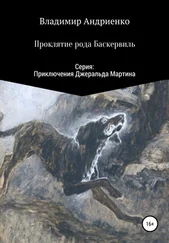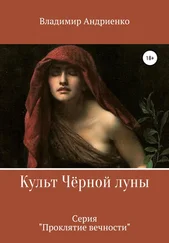Заговор, имеющий целью «позорный» сепаратный мир с Германией – излюбленная козырная карта парламентской оппозиции. Жандармский полковник Спиридович, знакомый с материалами дела Мясоедова, назвал его «грязной легендой», которую раздувал вождь октябристов Александр Гучков. Лидер фракции кадетов, союзник Гучкова по Прогрессивному блоку Павел Милюков 13 июня 1916 года вещает с думской трибуны: «Из края в край земли русской расползаются темные слухи о предательстве и измене… слухи эти забираются высоко и никого не щадят». 1 ноября в речи со знаменитым рефреном «что это, глупость или измена?» Милюков подводит к выводу, что налицо именно измена и указывает на источник скверны – «придворная партия, которая группируется вокруг молодой царицы». Фраза эта – Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich urn die junge Zarin gruppiert – представляет собой цитату из австрийской газеты «Neue Freie Presse», произнес ее Милюков по-немецки и скороговоркой, но и этого хватило – бомба разорвалась.
Уже на следующий день офицеры на фронте говорили, что Милюков «с фактами в руках» доказал предательство Александры Федоровны. «Настроение настолько созрело, – пишет в „Очерках русской смуты“ Деникин, – что подобные рукописи (запрещенный цензурой отчет о заседании Думы 1 ноября. – В. А.) не таились уже под спудом, а читались и резко обсуждались в офицерских собраниях». «Сумасшедшая немка» (об императрице), «немкин муж» (о Николае) – этих определений не стесняются ни в окопах, ни в великосветских салонах. Генерал Селивачев, чей корпус геройски сражался на Юго-Западном фронте, пишет в дневнике: «Вчера одна сестра милосердия сообщила, что есть слух, будто из Царскосельского дворца от государыни шел кабель для разговора с Берлином, по которому Вильгельм узнавал все наши тайны… Страшно подумать о том, что это может быть правда – ведь какими жертвами платит народ за подобное предательство!» Наконец, расползаются слухи о том, что Николаю будто бы уготована судьба Петра III: в результате дворцового переворота «в стиле Екатерины» власть перейдет к императрице.
Как реагировала царица на непрекращающиеся нападки? Она была оскорблена напраслиной до глубины души, но поделать ничего не могла – Александра Федоровна не любила и не умела того, что сегодня называется пиаром. Она чувствовала, что от вожаков оппозиции исходит угроза и умоляла мужа не уступать, не идти ни на какие компромиссы, сослать бунтовщиков… В первые же дни войны она вместе со старшими дочерьми пошла на курсы сестер милосердия; все трое стали работать в лазарете при Дворцовом госпитале. Помогала она и немецким пленным, чем, конечно же, тотчас навлекла на себя обвинения в симпатиях к противнику. (Сама Александра Федоровна объясняла царю необходимость хорошего обращения с пленными соображениями взаимности – дабы и русские солдаты в немецком плену не страдали.)
Заговорщиками были не царь с царицей, а оппозиционеры. Это они замышляли государственный переворот и далеко продвинулись в этом. «Мы были неопытными революционерами и плохими заговорщиками», – написал впоследствии Милюков. На этот счет существуют разные мнения и версии. Одна из них гласит, что стихийное восстание в Петрограде примерно на две недели опередило заговорщиков. Тем не менее, они почти в точности осуществили свой план. Поначалу сценарий был умеренный и неопределенный: предполагалось удалить царицу – то ли по русской традиции, постричь ее в монахини, то ли на военном корабле доставить в Англию; потом родилась идея отречения Николая в пользу 13-летнего цесаревича Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича, младшего брата царя, и преобразования России в конституционную монархию. О республике речи не было – монархия считалась незыблемым фундаментом государства.
Но что предполагалось делать, если Николай не согласится ни на удаление царицы, ни на отречение? На этот вопрос ответа у переворотчиков не было, равно как и на вопрос о дальнейшем положении и судьбе царя.
Зато проблема собственной легитимности сильно волновала будущих членов Временного правительства. Они не хотели быть узурпаторами. Они желали получить власть из рук законного монарха.
План этот, в сущности, удался – с поправками на непредвиденные случайности и субъективные обстоятельства, какие всегда вмешиваются в намеченный ход событий. Они так и собирались: задержать царский поезд где-нибудь между Могилевом и Царским и добиться отречения. Ключевую роль сыграл командующий Северным фронтом генерал Рузский. Именно Рузский, в штаб которого в Пскове прибыл 1 марта царский поезд, убедил царя согласиться на отречение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу