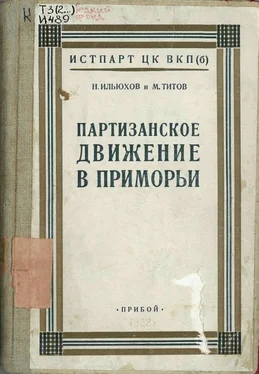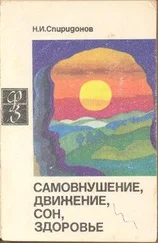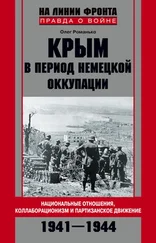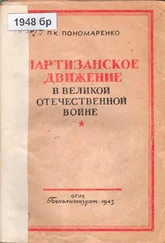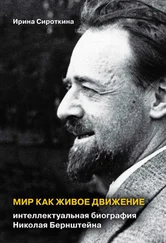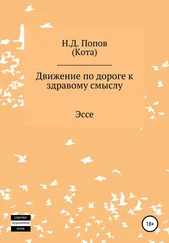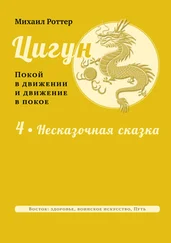Разложение армии Колчака и этапы этого разложения. — Заговор Чемеркина. — Гайдовское восстание. — Восстание егерей. — Победы Красной армии; партизаны ставят вопрос о захвате власти. — Центр революционной работы переносится в города.
Процесс разложения колчаковской армии в Приморской области имел свою историю. Собственно и на всех этапах ее существования устойчивость рядов, дисциплина колчаковцев, преданность их «единой неделимой России» были очень и очень относительными. Если когда-нибудь генералы и чувствовали себя уверенными при разработке своих оперативных планов, так это в первые 2—3 месяца после свержения советов в 1918 г. В то время социальный состав армии был по духу все же близкий для враждебного нам класса, а это в соединении с политической инертностью известной части крестьянства создавало устойчивую опору реакции. Зато почти весь 19-й год приносит с собой целую серию восстаний в армии, которые были симптомом того, что наступает момент, когда защитница контр-революции — белая армия — должна будет расправиться со своими повелителями. Эта серия восстаний может быть разделена на две фазы: 1) восстания стихийные, неорганизованные, происходившие помимо или при незначительном влиянии нашей партии, и 2) восстания организованные и поэтому включавшие в себя все элементы победы: такие восстания не давали особо заметных благоприятных результатов лишь вследствие незначительности своего размаха. Наиболее выдающимися из выступлений белых воинских частей, относящихся к первому типу, нужно считать восстание саперов против атамана Калмыкова в Хабаровске в марте 1919 г., затем заговор в никольско-уссурийском гарнизоне, известный в Приморьи как «заговор прапорщика Чемеркина»; «восстание генерала Гайды», происшедшее 18 ноября 1919 г. во Владивостоке, и восстание егерского батальона в январе 1920 г. тоже во Владивостоке. Для нас не безынтересно будет хотя бы коротко остановиться на характеристике всех этих выступлений, чтобы можно было возможно полнее представить ход последующих событий.
Бунт саперного батальона представляет собою запоздавшую на несколько месяцев попытку главным образом красногвардейцев, участников бывшего Спасского фронта, попавших на службу к атаману Калмыкову, — вернуть свои завоевания средствами, которые однако в данном случае оказались несвоевременными и потому непригодными. Батальон выступил против атамана, не связавшись предварительно с партизанами и партией, и тем сразу же обрек себя на одиночество. Он намеревался силой своего протеста заставить атамана отказаться от реставрации казачьих традиций и царской дисциплины в его банде. Для этого батальон послал Калмыкову письменную петицию, в которой в робкой форме и почтительном стиле предъявил требование об изменении его политики. Когда же атаман, рассвирепев от дерзости батальона, обрушился на него целым потоком ругательств и угроз и приказал бунтовщикам сдать оружие и выдать зачинщиков, батальон не нашел ничего другого, как обратиться к американскому штабу, умоляя о спасении жизни. Американцы рады были воспользоваться благоприятным случаем, чтобы лишний раз подчеркнуть перед населением свое либеральное «беспристрастие в русских делах», и взяли батальон под свою охрану. Сколько ни домогался неистовый атаман, бунтовщики не были ему выданы. Спустя недели две им была дана возможность разойтись на все четыре стороны, и все это предприятие нашло свой жалкий конец. В этом факте как в зеркале отобразились все минусы, которые проистекают от стихийного беспринципного, не подготовленного заранее вооруженного выступления. Поэтому вместо положительной роли бунт сапер оказал скорее отрицательное влияние на настроение солдат, перед глазами которых прошла столь жалкая по своему размаху и исходу, бессмысленная трагедия.
Несколько в другом свете представляется заговор прапорщика Чемеркина в гор. Никольск-Уссурийске. Инициатива в этом предприятии принадлежала уже не массам «вообще», не стихии, а группе сознательных, ясно себе представлявших цель и технику восстания товарищей, тесно связанных с организацией нашей партии. Руководителями заговора являлись: Чемеркин, офицер Сибирского стрелкового полка, бывший учитель дер. Михайловки, затем член Никольско-уссурийского партийного комитета т. Михайлов и дядя Костя. К ним примыкал ряд других менее видных товарищей. Никольско-уссурийская партийная организация в тот момент представляла группу самоотверженных, но мало связанных с широкими пролетарскими массами коммунаров, которые сразу же после свержения советов стали вести работу в армии белых. Противоправительственная организация у них росла очень медленно. Политические условия тогда были таковы, что не каждому из вольных и невольных «патриотов» ясно представлялась неизбежная гибель контр-революционного движения; поэтому в эту организацию шли больше одиночки.
Читать дальше