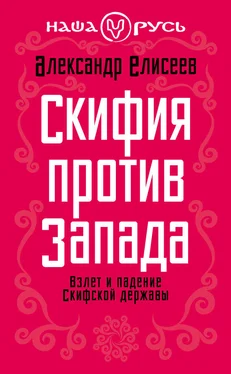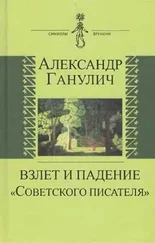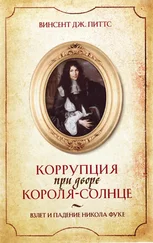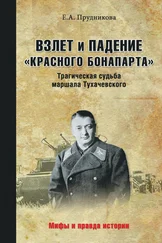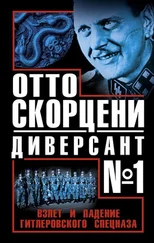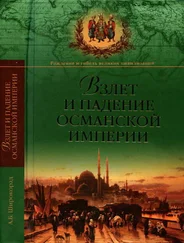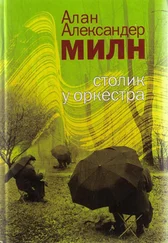Теперь стоит, наконец, рассмотреть славяно-русскую метафизику, выяснить, как она соотносится с указанными выше доктринами. Письменные источники сообщают о наличии у славян веры в Единого Бога. Византийский автор Прокопий Кесарийский писал: « Они (т. е. славяне. – А.Е. ) считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают священные обряды» . Тут утверждается знание славян о некоем Абсолюте, едином божестве, которое, однако, имеет черты конкретного, «функционального» божества («творец молний»). Скорее всего, Прокопий имел в виду бога Рода, огромную роль которого в системе языческих воззрений славян вскрыл Б.А. Рыбаков («Язычество древних славян»). Род, как и Перун, представлял собой божество, связанное с грозой, что видно хотя бы из этимологии «рдяный» – красный, «родиа» – молния. Однако его «теологический статус» явно выше статуса Перуна. «…Се же славяне, – уверяет «Слово об идолах», – Роду и Рожаницам прежде Перуна». Кроме того, корень «род» является чрезвычайно значимым в русском языке: «род» (в смысле коллектива), «родина», «природа» и т. д. Но самое главное – славяне, согласно данным древнерусских христианских текстов, считали Рода творцом мира: «Всем бо есть творец Бог, а не Род» (Комментарий к рукописному Евангелию 15–16 вв.). То есть некий комментатор-христианин полемизировал с общеизвестным и распространенным (даже тогда!) положением о том, что мир сотворен богом Родом. При этом у Единого Бога были и другие имена. Академик Б.А. Рыбаков утверждал, что его звали еще и Сварогом, Святовитом и Стрибогом. Как Сварог-Кузнец («Небесный») он выступал создателем именно материальной основы мира и произведенных из нее вещей. (В то же время имя «Род» указывает именно на жизненный, витальный аспект.) Теоним «Святовит» – означает «святая (священная) сила», «святой (священный) свет». Это не столько солнечный, сколько бытийный, «белый» свет, исходящий от Творца. И в качестве такового Света Творец выступает как источник уже духовной силы. Наконец, «Стрибог» – значит «бог-отец» (от слова «стрый» – «отцовский»). И это имя подчеркивает отцовский аспект Творца, выступающего как родитель «функциональных» богов, проявляющих его божественную полноту. (В то же самое время данный теоним имеет и «грозовое» измерение, так слово «стрекать» означает «пускать стрелы-молнии».) На языке метафизики Рода-Творца можно назвать Чистым Бытием, которое проявляет непостижимую запредельность Абсолюта. Другие божества (Перун, Даждьбог, Хорс, Велес, Семаргл, Лад и др.) мыслились как ипостаси Единого Бога, как его проявления и энергии, проявление непостижимой запредельности Абсолюта. И в этом заметна двойственность славянской метафизики. С одной стороны, она утверждала наличие «одного бога», предвосхищая тем самым грядущий выбор в пользу христианского единобожия. С другой же стороны, славяне все-таки признавали наличие множества богов, пусть даже и представляя их проявлениями Единого Бога. Таким образом, единобожие сочеталось в славянском язычестве с паганизмом (и пантеизмом), что создавало весьма драматическую и героическую картину.
Необходимо особо подчеркнуть важность Грозовой темы, которая пронизывает все славянское язычество. При этом сама Гроза обладает особым символизмом – она выражает сверхреальность Бога, его запредельность и высшую неоднозначность. Таким символизмом не обладает физический, солнечный свет, который многие эзотерические символисты склонны считать наипервейшим образом Божественной благости и могущества. Дело в том, что Свет, несмотря на всю свою символическую мощь, является противоположностью Тьмы, тогда как истинное могущество, пользуясь словами итальянского исследователя-традиционалиста Ю. Эволы, находится не «напротив», а «над». Поэтому важнейшим символом Божества (естественно, применительно к области природных явлений) следует считать то природное действо, которое превосходило бы и Свет, и Тьму, соединяя их, в то же время, в некоем диалектическом синтезе. Многим покажется «еретическим» и даже «сатанинским» рассуждение о положительном значении Тьмы, тем более что речь идет о символе Бога, следовательно, в рамках такого подхода, Тьма должна содержаться в Нем так же, как и Свет. Вместе с тем, православные богословы писали не только о Свете Божества («Свете Фаворском»), но и «Божественном мраке» или «тьме, превышающей свет» (особенно часто данный образ встречается в писаниях Св. Дионисия Ареопагита и Св. Григория Нисского). Под этой Тьмой они подразумевали сущность («усию») Бога, некую непознаваемую его сторону, «интимно» закрытую для созерцателей Божественного. Она «темна» и «мрачна» именно в силу своей закрытости, но она же и «выходит из себя» посредством Света – творящих Божественных энергий («идей-волений», «мыслей», «логосов»), которые уже поддаются сверхчувственному познанию и созерцанию. Более того, здесь мы имеем дело с познанием в высшей степени реальным и предметным, познанием, предполагающим соединение с Божеством и обретение статуса «бога по благодати» или «бога по усыновлению». Если бы Бог был только Светом, то познающий Его и соединяющийся с Ним человек просто-напросто растворился бы в безбрежном океане Абсолютного, потеряв свою самость и обесценив бы тем самым свое сотворение. Поэтому в Боге есть и «темная» сторона, недоступная духовному взору мистика.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу