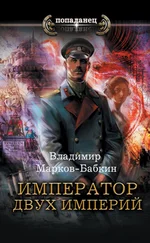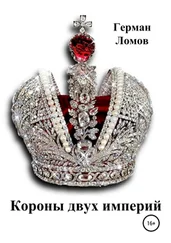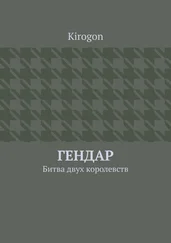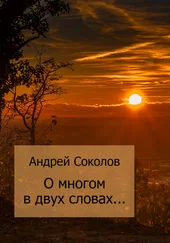Давно было известно, что во Франции военное инженерное дело поставлено на самом высоком уровне. Неслучайно поэтому для изучения французского инженерного опыта во Францию был направлен военный инженер Майоров, в задачу которого входило осмотреть крепости на севере Франции и территории бывшей Голландии. Французские военные и гражданские власти с удовольствием показывали русскому офицеру достижения в области технической мысли. Так что Майоров в письме канцлеру Румянцеву написал: «Я считаю себя обязанным поблагодарить за щедрое и открытое поведение по отношению ко мне министра внутренних дел, который почтил меня своей дружбой и осыпал знаками внимания» [37] [37] Отечественная война 1812 года. Материалы ВУА…, т. 2, с. 194.
. Результатом поездки Майорова были его предложения по модернизации русских крепостей.
Офицерский корпус российской армии в 1812 г. не претерпел значительных изменений по сравнению с первыми годами XIX века. Он сохранял характерные черты любого офицерского корпуса традиционных монархических стран. 89 % командного состава были дворянами, [38] [38] Целорунго Д. Капитан N, портрет русского офицера 1812 г. // Родина, 1992, № 6–7.
что, например, почти соответствует проценту дворян в офицерском корпусе дореволюционной Франции (в эпоху Людовика XVI дворяне составляли около 80 % офицерского состава). В российской армии офицером принципиально мог стать солдат крестьянского происхождения, для этого он должен был прослужить в унтер-офицерском звании не менее 12 лет. Для солдатских детей и выходцев из духовенства этот срок снижался до 8 лет. [39] [39] Целорунго Д. О бедном гусаре замолвите слово… // Родина, 8/2002, с. 31.
Впрочем, как видно из предыдущей цифры, офицеров — выходцев из простолюдинов было немного, и они совершенно не определяли дух офицерского корпуса.
Однако представлять себе российских офицеров как богатых дворянских сибаритов, ведущих разгульную жизнь и ведрами заказывающих шампанское в дорогих заведениях, как это часто делается в вульгарной литературе и кинематографе, было бы явно неправильно. Современные исследователи показали, что большая часть российского офицерского корпуса жила на скудное жалованье: 77 % офицерского корпуса «не были владельцами или наследниками крепостных и недвижимости. Офицеров-помещиков было всего 3,8 %» [40] [40] Там же.
. Что же касается жалованья, оно поистине удивляет своей мизерностью. Жалованье офицеров армейской пехоты было следующим:
прапорщик — 125 руб. ассигнациями в год,
подпоручик — 142,
поручик — 166,
штабс-капитан — 192,
капитан — 200,
майор — 217,
подполковник — 250,
полковник — 334.
Правда, доходы офицеров, получаемые от государства, не ограничивались жалованьем. Офицеры получали также так называемые «столовые деньги» (в зависимости от должности) и квартирные (в зависимости от чина и семейного положения). Однако дополнительные выплаты составляли не более ⅓ жалованья.
Если учитывать, что рубль ассигнациями в описываемую эпоху почти точно равнялся французскому франку, можно легко сравнить служебные доходы французских и русских офицеров. Вот таблица жалованья французских офицеров линейных полков (не учитывая доплаты):
суб-лейтенант (соответствует подпоручику) — 1000 франков в год,
лейтенант (поручик) — 1200,
капитан — 2400,
командир батальона (по-русски — майор) — 3600,
полковник — 5000.
Таким образом, получается, что французские офицеры получали примерно в десять раз большее вознаграждение, чем русские! Конечно, цены в русской провинции, где стояли армейские полки, были не такими высокими, как цены в Петербурге или Париже, но тем не менее, очевидно, что армейским офицерам приходилось влачить поистине нищенское существование.
Очень сложно провести соответствие между покупательной способностью денег той эпохи и нашего времени. Можно только привести некоторые цены в указанный период, которые могут дать понятие о ценности тогдашних денег. Так, например, в неизданной части дневника Дмитрия Михайловича Волконского за февраль 1810 г. записано, что повсюду дороговизна: «в трактирах на одну персону кушание без водки и вина — 2½ рубля ( ассигнациями ), на сутки два покоя малые — 2½ рубля ( ассигнациями )» [41] [41] Рукописный отдел РНБ, Фонд 775 № 4860. Волконский Д. М. Дневник. 1801–1832.
. Тот же автор указывает, что четверть овса (209 л) стоит от 1¼ до 1½ рубля ассигнациями. Поездка же на извозчике — не дешевле 30 копеек. Из изданной части дневника Д. М. Волконского мы можем также узнать, что в мае 1812 г. поденщики настолько подняли расценки, что требуют по «1 руб. 10 коп. в день» [42] [42] Волконский Д. М. Дневник. 1812–1814. // 1812 год… Военный дневники, М., 1990, с. 132.
. Таким образом, даже поденный рабочий в Москве мог зарабатывать раза в два больше, чем младший офицер. Последнему же, получавшему в месяц жалованье 12 рублей, было сложно гульнуть в трактире или кататься на извозчике.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
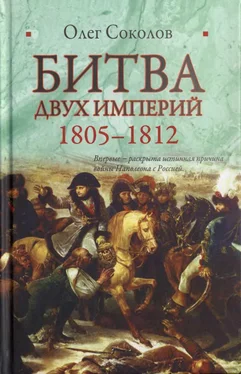

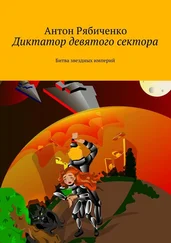
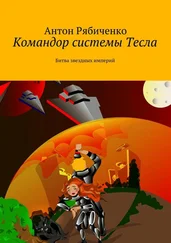

![AnaGran - Наследник двух империй [СИ]](/books/410937/anagran-naslednik-dvuh-imperij-si-thumb.webp)
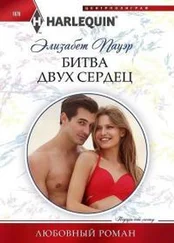
![Владимир Марков-Бабкин - Император двух Империй [litres]](/books/431532/vladimir-markov-thumb.webp)