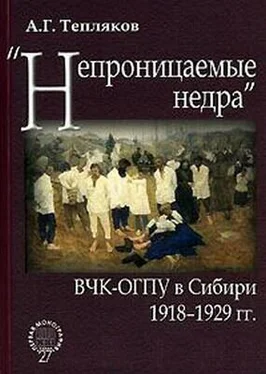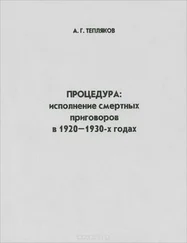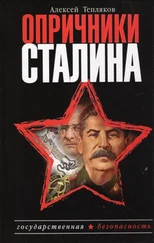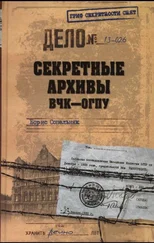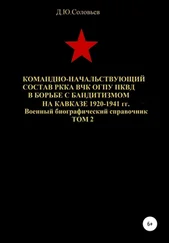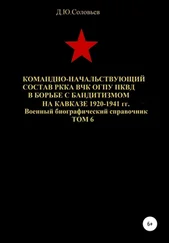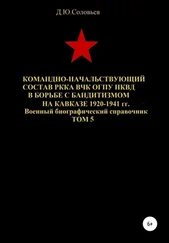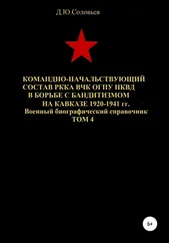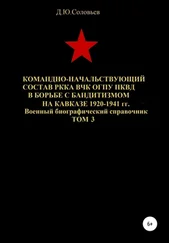Томские чекисты тоже имели особую «тёмную» комнату для упорных; по сведениям Молчанова, прошедший через неё арестант Ф.М. Самойлов «впал в нервное состояние» и после освобождения покончил с собой. Что касается пресловутых «явочных» знаков, то Молчанов писал, что в его бумаги был подброшен кусочек туши, с помощью которого и получились некие точки в коммерческом письме английской фирмы из Харбина, но ни он, ни замначальника губотдела ГПУ М.М. Чунтонов «не могли прочесть одну цифру на плане в Томске, а по приезде в Новониколаевск на плане кто-то пометил цифру карандашом». Томским и новониколаевским чекистам не удалось доказать вину А.Н. Молчанова, А.И. Кутолина, М.П. Петрова, Е.Д. Елина и Б.Е. Шмурыгина. В ноябре 1923 г., выполняя распоряжение Лубянки, Валейко подписал распоряжение об освобождении всех «заговорщиков» [299] ГАНО. Ф.20. Оп.2. Д 235. Л.9-21. Отметим, что чекистская рука прослеживается не во всех «заговорах» того периода. Местные власти нередко давали наверх паническую и абсолютно ложную информацию о кулацких «заговорах» с целью истребления ответработников. В ноябре 1922 г. Черепановский уком РКП(б) расследовал так называемый заговор в с. Тальменка и выяснил, что секретарь местного волкома партии Изместьев и председатель волисполкома Дыбков спьяну обвинили местных крестьян в подготовке покушения на руководящих работников волости. Изместьев и Дыбков отделались партийными взысканиями. ГАНО. Ф. п-1. Оп.2. Д.266. Л. 148. Другие аналогичные попытки сельских властей разобраться со своими критиками выливались в кровавые расправы по образцу 1920–1921 гг. Так, в 1923 г. во время ликвидации «заговора» в с. Каменка Шипуновекской волости Рубцовского уезда отряд ЧОН во главе с Овчинниковым арестовал многих зажиточных крестьян, из которых 8 расстреляли якобы при попытке бежать, а остальных избили и ограбили. См.: Угроватов А.П. "Красный бандитизм…" С. 106
.
Постоянной мишенью чекистов были эсеры, которых арестовывали как в период больших политических кампаний (вроде столичного процесса над эсеровскими лидерами летом 1922 г., когда во всех крупных городах Сибири были арестованы многие десятки эсеров, что привело к полному прекращению их подпольной организованной работы), так и в постоянных попытках связать с заговорщицкой деятельностью. От эсеров требовали убедительных подтверждений лояльности: так, видного эсера Н.М. Любимова, вступившего в РКП(б) заставили сотрудничать с ГПУ. В составе Всесибирского бюро бывших эсеров, организованного чекистами в январе 1923 г. для окончательного разложения ПСР, был агент Омского ГПУ С.И. Богомолов. Отказавшихся «разоружаться» подвергали репрессиям.
Ещё в начале 1921 г. в Канск была сослана большая группа эсеров-максималистов. Согласно чекистским сводкам, они распространяли листовки, приняли активное участие в районном съезде учителей и выборах членов волостного правления. Опасаясь эсеровского влияния на местных жителей, власти арестовали 27 максималистов и некоторых из них затем выслали за пределы Енисейской губернии. Но, как потом выяснилось, в среду ссыльных чекисты внедрили провокатора, который давал в ЧК ложные донесения с преувеличением масштабов эсеровской деятельности.
В сентябре 1923 г. томские чекисты попытались сфабриковать дело на ссыльного Я.П. Волк-Штоцкого, обвинив его в создании повстанческой эсеровской организации и шпионаже в пользу Польши. Получив материалы, оперативник Секретного отдела полпредства ГПУ Я.М. Краузе заключил, что они «не могут служить для передачи его суду, а устанавливают: что Волк-Штоцкий, находясь на свободе, всегда будет проводить свои контрреволюционные антисоветские намерения…». Чекист предложил ссыльного как «крайне опасного элемента» заключить в Соловецкий концлагерь.
В 1922 г. чекисты Новониколаевска арестовали нескольких сионистов, но вскоре были вынуждены отпустить их из-за незначительности обвинительных материалов, ибо после 1919 г. организованная деятельность сионистов в городе почти прекратилась [300] "Маргиналы в социуме…" С. 268–269, 271–272, 276, 278; Архив УФСБ по НСО. Д. п-6140. Л. 11–51.
.
Не удалось сфабриковать открытый политический процесс Новониколаевскому губотделу ОГПУ и после ареста местных социал-демократов. Весной 1923 г. в производство губсуда из ГПУ было передано дело по обвинению меньшевиков в распространении контрреволюционной литературы. Но суд оказался в неловком положении, ибо в деле напрочь отсутствовали серьёзные улики, а один из подозреваемых сообщил следствию, что найденную у него литературу он получил от коммуниста, о чём собирался во всеуслышание заявить на процессе. С точки зрения судебных властей, дело во время открытых слушаний могло принять «нежелательный оборот». Опасаясь возможного судебного конфуза и раскрытия провокационных методов чекистской работы, президиум губкома РКП(б) своей властью постановил дело в суд не передавать, а ограничиться административной высылкой арестованных меньшевиков.
Читать дальше