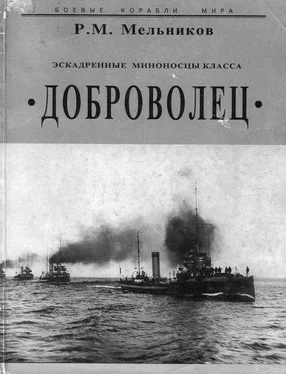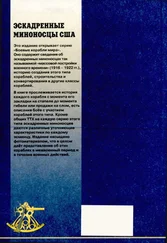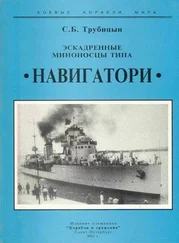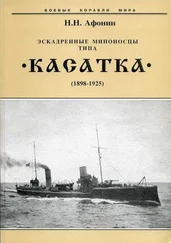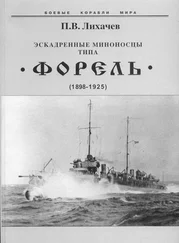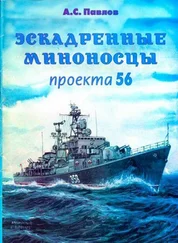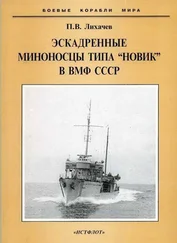Особо показательным, хотя вряд ли кто из участников имел время об этом вспомнить, был поход 7-9/20-22 октября 1915 г. Корабли шли к недавно дружеским, а теперь ставшим вдруг враждебным берегам Болгарии, где все названия на карте напоминали о славе побед русского флота и дружбе славянских стран. Но все осталось в безвозвратном прошлом. Неузнаваемо изменились и люди и корабли. И только флаг, славный Андреевский флаг – символ нации, вековой носитель доблести и чести флота, как и встарь, осенял корабли. И флот, выполняя веление долга, с веками отработанной исполнительностью совершал очередной, но не приближавший Россию к победе поход.
Обстрел портовых сооружений Варны и Евксинограда вели 'Евстафий', 'Иоанн Златоуст', 'Пантелеймон'. В прикрытии находились 'Императрица Мария', крейсера 'Кагул', 'Память Меркурия' и 10 миноносцев. Из-за отсутствия разведывательных данных, плохой погоды, не позволявшей корректировать стрельбу (гидрокрейсеры с самолетами в поход не взяли), операцию не довели до конца, и она оказалась, по существу, безрезультатной.
Обстрел решили повторить в следующий раз с одновременным ударом с воздуха. Этот поход состоялся 12-15/25-28 октября 1915 г. Но немцы, как и после первого обстрела Зунгулдака, без промедления воспользовались сделанным предупреждением и поспешили оборудовать в Евксинограде базу для своих пришедших в Черное море первых подводных лодок. В новом походе, как и прежде, участвовали 1-я и 2-я маневренные группы с охранявшими их крейсерами и миноносцами. В дневном походном порядке 'Лейтенант Шестаков' держался около крейсера 'Кагул', а 'Капитан-лейтенант Баранов' при 'Памяти Меркурия'. До начала бомбардировки противник был атакован самолетами гидрокрейсера. Среди его летчиков был лейтенант В.Р. Качанский, ранее служивший старшим офицером на 'Лейтенанте Шестакове', а с 1914 г., получив подготовку и звание морского летчика, участвовавший в действиях авиации под Севастополем и экспедициях совместно с флотом.
Обстрел сосредоточенным огнем мыса Галета, порта и его сооружений продолжался с 8 ч. 57 м. до 9 ч. 33 м. Батареи Варны пытались отвечать, но к концу обстрела замолчали. По наблюдениям командира 3-го дивизиона капитана 1 ранга A.M. Клыкова (ранее в 1913-1915 гг. командовал 'Шестаковым') уже после прекращения огня были видны два неподвижно стоявших дыма, позволяющие думать о взрыве пороха или боеприпасов.
Успевшие выйти в море из Евксинограда две германские подводные лодки UB-7 и UB-8 выбрали для атаки концевой 'Пантелеймон'. Атак лодок ожидали и с миноносцев 3-го дивизиона, не раз обращая внимание на подозрительные предметы, оказывающиеся при приближении к ним либо масляными пятнами, либо остатками выброшенного с кораблей мусора. Это распыляло бдительность (о чем в донесениях командиров предлагалось сделать вывод на будущее), и опытные немецкие подводники сумели обойти корабли охранения. Но удача им не сопутствовала. Первая лодка выстрелить не успела – 'Пантелеймон' сделал непредвиденный поворот и ушел из-под прицела. Вторая лодка промахнулась. Энергичный огонь по воде из 152-мм пушек одновременно открыли 'Пантелеймон' и 'Евстафий'. Разрывы их снарядов немецкие подводники и приняли за взрыв торпеды, который они, как писал немецкий историк, 'хорошо слышали'.
На обратном пути, когда флот поднялся вдоль берега до широты Констанцы и повернул на восток к Севастополю, 'Лейтенант Шестаков' и 'Капитан-лейтенант Баранов' по сигналу с 'Императрицы Марии' отделились и пошли на север к Одессе. Здесь они должны были обеспечить испытания крейсера 'Прут'. Этот новый корабль русского флота ранее был турецким крейсером 'Меджидие'.
Желая реабилитировать себя в глазах общественного мнения, А.А. Эбергард пытался интенсифицировать действия флота. За последние три месяца маневренные группы совершили 10 походов. В них почти всегда в полном составе участвовали и корабли 3-го дивизиона. В тяжелых зимних условиях, проделывая в дневное время уже неукоснительно требовавшийся противолодочный зигзаг (в Черном море это называлось 'ломать курс'), с риском нарваться на плавающие мины (одну из них в походе 11 ноября расстрелял 'Зацаренный'), корабли неустанно бороздили море. Множилось число выходов в море уже вполне сформировавшихся двух дредноутных соединений, росло количество поставленных мин и потопленных турецких пароходов, фелюг и магонов (только в восточной части моря их было потоплено 778), но главные разбойники Черного моря оказались неуловимыми. Адмирал, вместо устройства надежной западни, все еще полагался лишь на счастливый случай.
Читать дальше