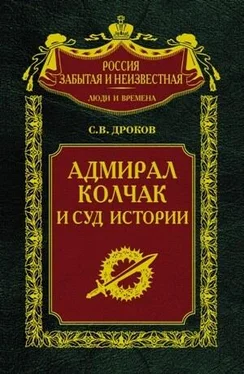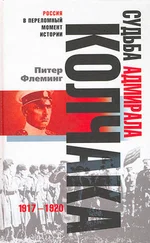После речей защитников, напрочь опровергавших выстроенную А.Г. Гойхбаргом концепцию политической ситуации в Сибири, государственный обвинитель посчитал необходимым выступить с ответной репликой, желая не допустить «полного искажения процесса», по двум «неверным убеждениям» «идеологии правых социалистических элементов» [546].
Первое – о якобы непричастности правых социалистических партий к свержению советской власти и восстанию Чехословацкого корпуса, второе – невиновности подсудимых. Опасаясь за последствия своего выступления, адвокат Аронов вынужден был давать объяснения: «Для меня трагедия, которую пережила Россия, трагедия, которую пережила Сибирь под властью Колчака, не есть случайное явление. Для меня как марксиста это есть исторический факт к воли личности того или другого образа мысли […] Я думаю, что все, кто сам переживал момент свержения, и члены революционного трибунала, которые присутствовали и наблюдали это свержение, знают, что здесь не было никакой вооруженной силы» [547]. И вновь подчеркнул: обвинение не установило фактов свержения советской власти лично подсудимыми. Эти «типичные представители русской интеллигенции» не являлись противниками пролетариата, опасности их возврата к врагам нет никакой. Наоборот, «близок час, когда вся русская интеллигенция, выяснив тождество своих интересов с интересами пролетариата, определенно перейдет на сторону его освобождения, которое не влечет ничьего порабощения, которое освободится от пут рабства и невежества всего человечества» [548].
Видимо, по совету адвокатов все подсудимые, высказав свои надежды на справедливость Чрезвычайного революционного трибунала, признали чудовищность деяний колчаковского правительства, но не персональную ответственность за них. Только подсудимый Третьяк свою «тягчайшую вину перед революцией» признал в том, что «своевременно, благодаря создавшейся обстановке или, быть может, по слабости своих сил, не взорвал и не пустил на воздух, созданный по указке из Лондона, омский государственный притон» [549].
Подводя итог рассмотрению вопроса о позиции защиты на судебном процессе, необходимо подчеркнуть следующие положения. Так как целью Чрезвычайного революционного трибунала было не выяснение истины, а инициирование «большого политического митинга», то сильная, аргументированная защита могла помешать ее осуществлению. Поэтому адвокаты не получили полноценной возможности подготовиться к суду. Кроме того, в ходе судебного разбирательства им давалось понять, что слишком активная позиция может привести на скамью подсудимых.
Профессиональные навыки адвокатов и подсудимых (многие из которых имели юридическое образование) часто мешали устроителям процесса на Атамановском хуторе. Защита успешно доказала несостоятельность многих обвинений, избрав в качестве основного утверждение, что главных деятелей колчаковского правительства на скамье подсудимых нет, а обвиняемые являлись лишь технической силой, чиновниками этого правительства.
Действуя совершенно иными методами, чем обвинение – обращением к логике и здравому смыслу, к суду, а не публике, индивидуальным подходом к обвинению и защите, используя ссылки на имевшиеся к тому времени элементы советского уголовного законодательства, – защита добилась некоторой моральной победы. Но вся логика процесса показывает, что подсудимые попали в положение людей обреченных на предопределенный заранее приговор.
Предопределенность приговора была задана предъявленными государственным обвинителем Гойхбаргом в своей заключительной речи «двумя листочками основных положений Уголовного права Советской республики» [550]. В отличие от «социалистического и демократического фигового листка», прикрывшего «наготу промежуточных партий», «два листочка» помогли государственному обвинителю выдать рекомендации по классификации индивидуального участия каждого подсудимого, их «приспособляемости к существующему общественному порядку […] при помощи принудительных работ, при помощи перевоспитания» [551].
По отношению к некоторым из них, «обладающим […] способностями вступать в сношения […] неожиданно могущим появиться в местах, где есть некоторое колебание фронта […] сохранившим до самого последнего времени неразрывные связи с организациями, ведущими и поныне преступную борьбу» [552], «приспособляемость» была признана неосуществимой. Исключение составили подсудимые Карликов («попал как кур в эти грязные щи») и Третьяк («содействовал в деле свержения этой преступной шайки с оружием в руках»). Подсудимых, «которые, в свое время, ушли по тем или иным хорошим или даже плохим побуждениям», ожидала изоляция от общества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу