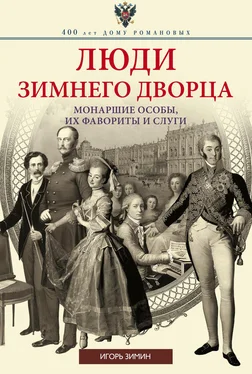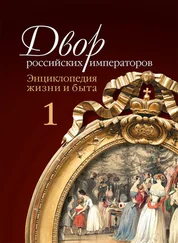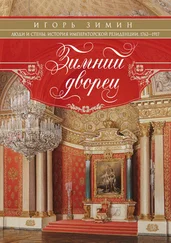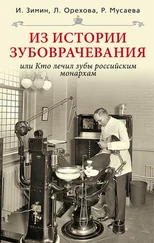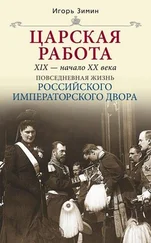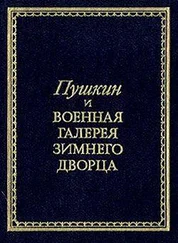Литография А. А. Козлова. Известия из Севастополя. 1854–1855 гг.
Начиная с 12 февраля все мемуаристы отмечают начало обвального развития заболевания императора. Около обеда вновь начинается озноб, а затем «лихорадочный жар». Император впервые в течение всего дня оставался в постели. Медики отмечали, что «кашель и извержение мокроты были весьма умеренны. Вечером оказался пот, и как язык стал несколько чище, то по ходу болезни можно было ожидать простой перемежающейся лихорадки, с желудочным расстройством» [765]. В камер-фурьерском журнале, видимо, со слов лечащих врачей, фиксировались его недомогания: «Лихорадка почти перестала. Голова свободна… Пульс сего дня удовлетворителен. Кашель, извержение мокроты не сильнее» [766]. Император по-прежнему не обедал.
В исторической литературе подчеркивается, что фатальную роль в развитии болезни императора сыграло известие о неудаче русских войск в «деле под Евпаторией» в ходе Крымской войны (1853–1856 гг.). Царь буквально жил от курьера к курьеру и тяжело переживал неудачи русской армии в Крыму. В медицинских документах упоминалось, что известие об очередном поражении русских войск привело к усилению лихорадки. Несмотря на предпринятые врачами меры, Николай Павлович был уже не в состоянии справляться с обычным объемом дел, и с 12 февраля [767]цесаревич Александр Николаевич принял на себя часть обязанностей по управлению страной.
13 февраля в камер-фурьерском журнале записали: «Его Величество заболел 10 февраля лихорадкою, которая 11 числа повторилась. Ночью на 13 было мало сна, лихорадка менее, голова свободна. К литургии не выходили».
В последующие дни болезнь развивалась – лихорадка, кашель с мокротой с примесью крови. По записям в камер-фурьерском журнале 14 февраля известно, что император ночью «мало спал», но «лихорадка почти перестала. Голова свободна», однако он по-прежнему не обедал и не ужинал. В ночь на 15-е немного спал: «Пульс сего дня удовлетворителен. Кашель, извержение мокроты не сильнее». Императрица Александра Федоровна и дети несколько раз приходили в Нижний кабинет.
С 16 февраля 1855 г. без ведома царя, но с разрешения «Высочайшей фамилии, для Августейших Членов оной и особ, приезжавших во дворец, составлялись в приемной комнате краткие записки о том, как проводимы были им ночи». О состоянии здоровья в камер-фурьерском журнале записано: «Вчера после лихорадочного движения, сопровождавшегося ревматической болью под правым плечом, Его Величество в эту ночь спал, но не так покойно. Голова не болит, извержение мокроты свободно».
С 17 февраля лихорадка усилилась, «отделение мокрот из нижней доли пораженного правого легкого сделалось труднее», и для медиков стала очевидной вероятность смерти императора. Царь терял сознание и бредил. В этот день к лечащим врачам М. М. Мандту и Ф. Я. Кареллю присоединился лечащий врач цесаревича И. Енохин. Медики сообщили цесаревичу о возможности «паралича сердца» [768]. 17 февраля Л. В. Дубельт [769]записал в дневнике: «Разнесся смутный слух о болезни Государя Императора и произвел всеобщее, как видно и искреннее, прискорбное впечатление» [770].
Характерно, что только после резкого ухудшения состояния здоровья царя ближайшее окружение отреагировало на эти сведения как на серьезную угрозу. Инерция общественного сознания, связанная с восприятием Николая I как необычайно физически крепкого человека, оказалась столь велика, что все предшествующие недомогания были фактически не замечены даже ближайшим окружением императора.
17 февраля 1855 г. цесаревич принял решение об издании бюллетеней с информацией о состоянии здоровья Николая I за подписями ближайших медиков – М. Мандта, И. Енохина, Ф. Карелля. Для ближайшего окружения листки с текстами бюллетеней оперативно вывешивались в Зимнем дворце. Текст первого бюллетеня опубликовали в газете только 18 февраля, а все остальные вышли уже после смерти царя [771]. Всего опубликовали пять бюллетеней в Санкт-Петербургских ведомостях. Мемуаристы оставили подробные записи событий этого дня. Поскольку все происходило в интерьерах Зимнего дворца, приведем некоторые из них. А. Ф. Тютчева записала в дневнике 19 февраля 1855 г., на следующий день после смерти императора: «17 февраля я по своему обыкновению к 9 часам утра спустилась к цесаревне, чтобы присутствовать на сеансе пассивной гимнастики, которой она ежедневно занималась с Derond. Я застала ее очень озабоченной – император неделю как болен гриппом, не представлявшим вначале никаких серьезных симптомов; но, чувствуя себя уже нездоровым, вопреки совету доктора Мандта настоял на том, чтобы поехать в манеж произвести смотр полку, отъезжавшему на войну, и проститься с ним. Мандт сказал ему: „Ваше величество, мой долг предупредить Вас, что Вы очень сильно рискуете, подвергая себя холоду в том состоянии, в каком находятся ваши легкие“. – „Дорогой Мандт, – возразил государь, – вы исполнили ваш долг, предупредив меня, а я исполню свой и прощусь с этими доблестными солдатами, которые уезжают, чтобы защитить нас“. Он отправился в манеж и, вернувшись оттуда, слег. До сих пор болезнь государя держали в тайне. До 17-го даже петербургское общество ничего о ней не знало, а во дворце ею были мало обеспокоены, считая лишь легким нездоровьем. Поэтому беспокойство великой княгини удивило меня. Она мне сказала, что уже накануне Мандт объявил положение императора серьезным. В эту минуту вошел цесаревич и сказал великой княгине, что доктор Карелль сильно встревожен, Мандт же, наоборот, не допускает непосредственной опасности. „Тем не менее, – добавил великий князь, – нужно будет позаботиться об опубликовании бюллетеней, чтобы публика была осведомлена о положении“» [772].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу