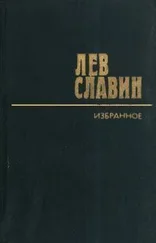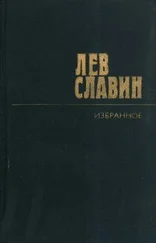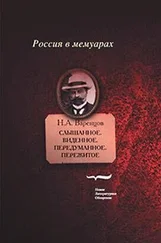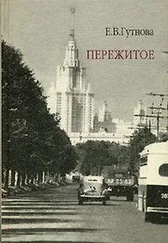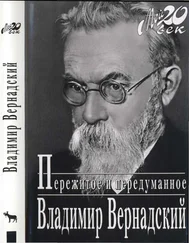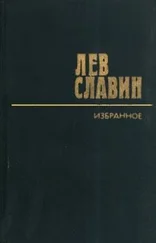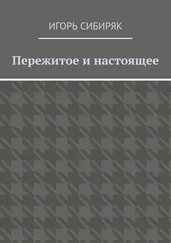Новые веяния, правда слабые и очень тонкие, к концу века проявлялись и в нашем министерстве внутренних дел. Чуялось несколько иное, более мягкое отношение к земскому и городскому самоуправлениям. Разрабатывался новый проект городового положения для Петербурга. Этот законопроект был окончательно утвержден и обнародован в 1903 г. Он положительно узаконял выборы гласных думы по участкам и лишил городского голову председательства в заседаниях Городской думы, установив особую должность председателя думы по всем вопросам и делам, подлежащим ее ведению и решению.
Это последнее новшество вносило радикальную перемену в общем строе городского управления. Давно, часто и многими указывалось на неудобство совместительства в лице городского головы председательства в распорядительном и исполнительном органах - в управе и думе. Но министерство упорно держалось такого порядка, по-видимому, усматривая в нем одну из гарантий благонамеренного поведения городских управлений, дающую возможность иметь под рукой в лице городского головы ответственного за ход дел и направление в работах городского управления. В 1903 г. оно отрешилось от этого предрассудка для Петербургского городского управления, оставив во всех остальных городах старый порядок совместительства. Невольно возникал вопрос: почему новшество признано возможным и удобным в Петербурге и не вводится в Москве, Киеве, Одессе, Саратове и т.д? На него никто не смог бы дать ответ, и нам в 1901 г. пришлось проводить выборы на новый срок по правилам городового положения 1892 г.
Прежде чем перейти к этим выборам, считаю нужным остановиться на одном из местных общественных деятелей, игравшем некоторую роль в этих выборах, - на незаурядном во всех отношениях деятеле графе Анатолии Дмитриевиче Нессельроде.
Родовитый, знатный, с историческим именем, богатый и большой землевладелец в Вольском уезде (с. Царевщина) граф А. Д. Нессельроде появился на саратовском горизонте в начале девяностых годов и вскоре сделался одним из самых крупных домовладельцев нашего города: он приобрел покупкой ряд смежных дворовых мест, сплошь капитально застроенных и в совокупности составивших домовладение, захватившее полквартала и выходящее на 3 улицы: Московскую, Приютскую и Царицынскую. Кроме того, он приобрел еще целый незастроенный пустопорожний квартал на окраине города, проданный им впоследствии казне под устройство винных складов.
Помимо своей родовитости, знатности и богатства, граф был человек особенный.
Внук известного канцлера, чисто русский по матери, урожденной княгини Друцкой-Соколинской, православный по вере, он детство, отрочество и раннюю юность (до 16 - 17 лет) провел за границей - во Франции, где в Париже и получил чисто французское воспитание и первоначальное образование. Французский язык был для него родным языком, на котором он лепетал с младенческих лет.
Русскому языку он обучился впоследствии - в юношеские годы. Говорил по-русски без заметного акцента, правильно; но, вслушиваясь в его русскую речь - медленную, тягучую, нельзя было не заметить, что он думает и соображает по-французски и переводит свои думы и мысли на русский язык, допуская иногда галлицизмы и своеобразные выражения (например, вместо "однородный" - "единородный"). Все же ко времени переезда в Саратов, когда ему было около сорока лет, он обладал вполне достаточным знанием русского языка и русской грамоты. Какой он имел русский образовательный ценз - я не знаю. Но надо полагать, что на правах экстерна он имел какой-либо диплом русского высшего учебного заведения.
В молодые годы, в 1880 - 1881 гг., он состоял при сенаторе Шамшине, ревизовавшем Саратовскую губернию. Затем некоторое, весьма короткое, время состоял товарищем прокурора Петербургского окружного суда. Но там он не поладил с своим высшим начальством. Рассказывают, что разлад принял очень острый и настолько оригинальный и своеобразный характер, что возбуждался вопрос о дуэли. После этого он оставил судебное ведомство и Россию и переехал в Париж, где купил себе дом (коттедж). Прожил он там около 10 лет, а затем появился в Саратове.
Что могло побудить этого русского аристократа, но европейца до мозга костей оставить Францию, о которой еще во времена Фамусова и Чацкого говорили: "нет в мире лучше края", - и предпочесть Парижу Саратов? Можно ответить только гадательно и предположительно. Может быть, этого требовали хозяйственные дела по имению, может быть, явилось желание поработать в качестве общественного деятеля на пользу родного края, а может быть, приближаясь к порогу старости, граф почуял зуд честолюбия и рассчитывал, идя по ступеням общественной и дворянско-сословной службы, сделать видную "государственную" карьеру.
Читать дальше