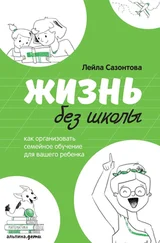Судя по этому замечанию, учителя активно содействовали укреплению школы, но с определенными нюансами в поведении, раскрывающими их роль посредников между государством и народом. Являясь не самым рьяным представителем власти, учитель был не пассивной жертвой или равнодушным наблюдателем, он в этих обстоятельствах проявлял незаурядную выдержку и изобретательность, старался сблизить государственную политическую линию с насущными потребностями простых людей, не забывая при этом о своем положении в крестьянской общине.
«Мы и учителей сами оплатим»: поддержка школы
У кампании за всеобщее и обязательное обучение много общих черт с другими начинаниями эпохи сталинизма: непрестанные перемены инициировались и политизировались правительством и партийной верхушкой, к намеченным целям предлагалось двигаться семимильными шагами, местные власти старательно претворяли в жизнь общегосударственные планы, человеческие и материальные ресурсы мобилизовывались быстро, но порой бестолково, и значительные успехи достигались даже тогда, когда ставились совершенно нереальные задачи. В отличие от других массовых кампаний, таких как индустриализация и реорганизация сельского хозяйства, важнейшими итогами всеобщего обучения были перемены в человеческом поведении и в отношениях людей. Хотя за парты посадили всех детей, хотя с ними занимались в только что построенных зданиях новые педагоги, успех дела зависел от того, станут ли школы непременным атрибутом жизни, обучение привычным и желанным, завоюют ли всеобщее уважение учителя [21] Так утверждает, что массовое обучение — это «ритуальное действо, приобретавшее особую значимость потому, что люди в него верили». Советские руководители могли строить школы (место ритуала) и заставлять детей высиживать в них положенные часы (участвовать в ритуале), но эффективность обучения, по сути, зависела от желания обрести знания и сознательного участия в процессе обучения. См.: Tyack D. Ways of Seeing. P. 367.
. Главным в этой кампании было выяснить, чем станет для советских людей предлагаемое сталинским режимом образование.
Одну из самых впечатляющих историй об отношении народа к обучению детей рассказал бывший ученик, который ходил в школу, расположенную недалеко от г. Горький:
«Мой случай похож на многие другие. Отец тогда сидел в тюрьме, а мать осталась с тремя детьми на руках. Мы жили в нищете, и я каждый день за семь километров ходил в городскую школу. Мать не могла позволить себе купить ботинки или теплую одежду для нас, и зимой я ходил в лаптях, сплетенных дома, и в маминой хлопчатобумажной жакетке. Большинство моих одноклассников носили лохмотья».
Несмотря на все затруднения, которые мешали 3/ 4деревенских детей пройти полный курс семилетнего обучения, по словам этого бывшего ученика, большинство крестьян целиком и полностью поддерживали всеобуч: «Часть молодежи рвется продолжить обучение, но у большинства из них шансов почти нет». Бывший ученик из Полтавы пришел к такому же выводу: «Как правило, родители изо всех сил стремились отправить детей в школу, а помешать им могли только крайние обстоятельства» {204} 204 Education in the Soviet Union. P. 5, 15.
. В начале 1929 г. мальчик из Калужской области попросил партийных руководителей прислать ему книг, чтобы продолжить «самообразование» и обучить маленькую сестренку чтению. Жалуясь, что его исключили из школы из-за отсутствия еды и одежды, мальчонка в заключение пишет: «Я очень хочу учиться, но у нас нет средств, чтобы я ходил в школу» {205} 205 РГАСПИ. Ф. 78. On. 1. Д. 351. Л. 16. См. примерно такие же прошения: РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 352. Л. 14-15, 62; Ф. 78. Оп. 1. Д. 353. Л. 27, 87-89; Ф. 78. Оп. 1. Д. 379. Л. 70; Ф. 78. Оп. 1. Д. 415. Л. 33.
.
Американский корреспондент Уолтер Дуранти увидел в кампании всеобщего обучения как перспективы, так и изъяны нового российского режима:
«Обо всей системе — от детских садов до университетов — можно сказать одно: планы опережают снабжение ресурсами, что характерно почти для всего в России. В этой стране образование — обязанность, предмет гордости и достижение, к которому страстно стремятся десятки и десятки миллионов тех, для кого оно недоступно» {206} 206 NYT. 1930. November 9. S. iii. P. 3; 1932. January 31. S. iii. P. 4.
.
Судя по этим примерам, уважительное отношение к образованию как со стороны отдельных людей, так и в целом общества во времена сталинской «революции сверху» только укрепилось, несмотря на все лишения {207} 207 О сельской бедноте и обучении в царской России см.: Sinel A. The Campaign for Universal Primary Education in Russia. P. 504; Eklof B. Russian Peasant Schools. P. 352-370, 384-386.
.
Читать дальше
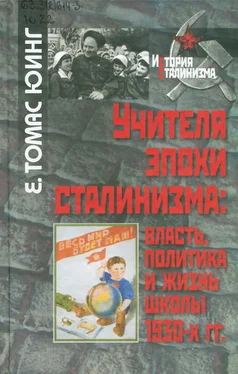






![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)