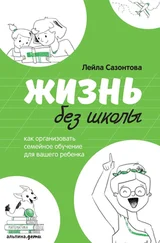«Все граждане с иждивенцами восьми лет и старше обязаны отдать их в школу на целый день и обеспечить их обувью, одеждой, учебниками, тетрадями, если только дети не получат их бесплатно. Отказ подготовить детей к школе вызовет меры административного воздействия».
Как только взяла старт кампания всеобщего обучения, чиновники объявили, что теперь предстоит решать «проблему обязательности». Заместитель руководителя Наркомпроса Эпштейн строго указал в 1930 г., что, в то время когда вся страна борется за претворение в жизнь планов всеобуча, вне стен школы не должен остаться ни один ребенок {195} 195 Милютин В. Обобществление в колхозах // Правда. 1930. 20 февр. С. 5; На решающем этапе борьбы за всеобуч // Правда. 1930. 27 нояб. С. 1; Эпштейн М. Боевая задача // Народное просвещение. 1930. № 9. С. 5-8.
.
Однако в следующие десять лет отделы образования регулярно признавали, что многие дети часто пропускают занятия. За недостаточное внимание к посещаемости подверглось критике сибирское школьное начальство. В Иваново уволили руководителя отдела образования, когда 3 тыс. детей школьного возраста не пошли в школу, та же участь постигла руководителя отдела образования города Бобрика, когда ежедневно занятия стали пропускать больше 10% учащихся. В конце 1937 г. узбекский Наркомпрос пришел к выводу, что 150 тыс. детей (15% от общего числа) ходят в школу нерегулярно {196} 196 Культурное строительство СССР: 1939. С. 47; Кондратьев А. Всеобуч на Бобриках. С. 69-72; Разрешить нерешенные вопросы всеобуча // ЗКП. 1935. 26 июля. С. 2; О срыве всеобщего обязательного начального обучения в Ивановской области // Бюллетень Наркомпроса. 1937. № 22. 15 нояб. С. 9-10; Мелентьева А. П. Развитие народного образования в западносибирской деревне // Культурное развитие советской сибирской деревни. 1937 — июнь 1941. Новосибирск: Наука, 1980. С. 185.
.
Отделы образования и их партийные организации то и дело получали выговоры за прогулы учащихся и за то, что в школы зачислено мало детей, доставалось порой и родителям. В начале 1938 г. начальник сельского отдела образования подверг критике родителей, которые «незаконно удерживали детей дома… без уважительных причин». Процитировав объяснительную одного из родителей: «Он мой сын. Хочу — буду его учить, а не захочу — не буду», — этот начальник доложил, что двое так называемых отцов будут привлечены к уголовной ответственности. Чиновник Наркомпроса Малышев призвал к «решительной борьбе» с родителями, которые «злостно нарушают закон о всеобщем обязательном обучении», отказываясь посылать детей в школу «по тем или иным причинам» {197} 197 НА РАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 13. Л. 134; Ф. 10. Оп. 1. Д. 21. Л. 5; Малышев М. П. Сельская школа РСФСР // Советская педагогика. 1938. № 7. С. 30.
. В таких ситуациях использовались и увещевания. В 1937 г. журнал «Работница» убеждал женские комитеты обеспечить посещаемость школы учениками: организовать их доставку до места, расследовать каждый случай прогула и вести работу с родителями — все под лозунгом «Чтобы ни один ребенок не остался вне школы!» {198} 198 Всеобщее обязательное обучение // Работница. 1937. № 25. С. 3-4.
.
Из интервью с советскими эмигрантами можно узнать о разных способах обеспечения посещаемости. Бывший ученик из Черниговской области описывает крестьянина, отца семейства, «осужденного за то, что держал дома двух своих сыновей, потому что ненавидел советский строй», а другой бывший ученик из Черкасской области вспоминал, что его мать обещали прикончить, если не отправит детей в школу. Бывший ученик из Полтавской области, однако, не смог припомнить таких крайностей: «К родителям, чьи дети не ходили в школу, никаких мер не принималось… Не слышал ни об одном случае, когда бы у родителей отобрали детей только за то, что они не посещали занятий» {199} 199 Education in the Soviet Union. Р. 3-5, 21-22.
. Родителей могли серьезно наказать, хотя случалось такое нечасто.
Советские чиновники и многие другие, однако, понимали, что у большинства детей просто не было выбора, и занятия они пропускали по экономическим причинам. В начале 1929 г. 14-летний мальчик из смоленской деревни просил у Калинина «несколько рублей, чтобы купить лампу и немного книг, потому что мой отец не разрешит мне пойти в школу». Весной того же года Калинин получил письмо от другого мальчика, И. И. Карамышева, который заявил: «У меня есть желание учиться и учиться, но у моего отца, бедного крестьянина и инвалида, нет средств, чтобы дать мне возможность учиться». Через четыре месяца Карамышев снова попросил о помощи, чтобы пойти в школу: «У меня огромное желание учиться, и я хочу отдать все свои силы строительству социализма». В январе 1930 г. третьеклассники из Килесского района слезно просили о помощи для продолжения учебы:
Читать дальше
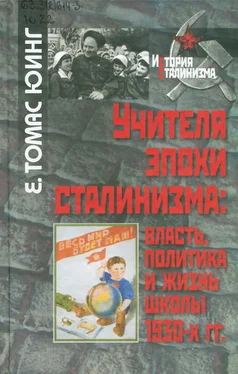






![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)