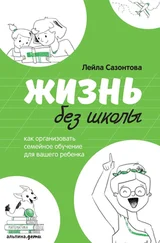Тем не менее на такие уроки можно посмотреть с разных точек зрения. Следовала ли Олешина на самом деле «прогрессивным» методикам, направленным на развитие совместного и самообучения? Или ей просто не хватало авторитета и энергии, чтобы все время контролировать учащихся? А может, она руководствовалась здравым смыслом — что с некоторыми вопросами дети лучше разберутся самостоятельно? Независимо от мотивов, которыми руководствовалась Олешина, проводя уроки таким образом, что вызвало негодование редактора журнала, дело здесь не только в пресечении учителем беготни и разговоров в классе. Предоставляя ученикам свободу, Олешина, что бы она сама при этом ни думала, подрывала основы педагогики 1930-х гг., где главная роль в школе была отведена учителю {461} 461 О том, как учителя следили за передвижениями учеников и шумом в классах, см.: Lampert M. How Do Teachers Manage to Teach? Perspectives on Problems in Practice // Harvard Educational Review. 1985. Vol. 55, No. 2. P. 178-179.
.
Подобные обвинения можно было выдвинуть и в отношении более «традиционных» приемов обучения. Как сообщали инспекторы Казахстана, многие учителя заставляли детей во время уроков читать учебники, а потом пересказывать прочитанное, при этом самому учителю оставалось лишь «делать выводы». Несмотря на отсутствие свободы и творчества на таких уроках, районный отдел образования пришел к тому же заключению, что в случае с Олешиной: «Это не педагог учит детей, а дети учат педагога» {462} 462 Сборник руководящих материалов для учителя. Уральск, 1936. С. 10.
.
Таким образом, за разговорами о «реакционных» и «прогрессивных» методиках скрывалось серьезное беспокойство за эффективность обучения [45] В ряде случаев противопоставление традиционных и новаторских методов преподавания носит слишком жесткий характер. Это имело место, напр. , в китайских и иранских школах. См.: Paine L. W. The Teacher as Vir-tuoso: A Chinese Model for Teaching // Teachers' College Record. 1990. Vol. 92, No. 1. P. 49-81; Mottahedeh R. The Mantle of the Prophet. Religion and Politics in Iran. New York, 1985. P. 69-109.
. Учителя вынужденно изобретали приемы для заполнения долгого дня и выполнения своих многочисленных обязанностей. Судя по обследованиям профсоюза, учитель тратил в день от девяти до одиннадцати часов на подготовку к урокам, сами занятия, проверку заданий, собрания и другие мероприятия сверх школьной программы. В эмиграции один бывший учитель говорил о пятнадцати часах ежедневной работы. Даже инспекторы сетовали на бесконечную череду совещаний, занятий в кружках, потому что они отрывали от подготовки к урокам и самообразования. «Свободное время» учителей съедали общественная работа и культпоходы с учениками {463} 463 НА РАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 171. Л. 7, 18; ГА РФ. Ф. 5462. Оп. 14. Д. 237. Л. 101-124; HP. A. № l. P. 10; № 91. P. 11; № 387. P. 22; № 1354. P. 10-11, 53; № 1517. P. 8-9; № 1664. P. 7.
. Выбрать линию поведения в сложной ситуации помогала своеобразная тактика — решение самой важной задачи, что подразумевало самые необходимые усилия для достижения цели. Эта тактика, однако, противоречила указаниям властей на плодотворное использование каждой минуты. Характерно, что любой урок продолжался строго фиксированное время, независимо от темы, обсуждаемых вопросов и успехов школьников {464} 464 См. предписания в: Народное образование в СССР. С. 171.
.
В образовании, как и в других сферах жизни, сталинизм вырабатывал механизмы контроля над личностью и над обществом в целом. В частности, учителей призывали обеспечить «индивидуальный и систематический учет» всех учеников по каждому предмету каждую четверть. Таким образом, для «управления классом» учителю следовало залезть в душу каждому учащемуся. В 1936 г. О. Колесникова заявила, что учитель должен управлять классом: «Но класс — не “масса”. Это Володя, Гриша, Ваня, Коля, Лена и другие». В статье 1938 г. давались новые наставления: в конце каждого урока выяснять, во всем ли ученик разобрался, и, «если же остались один-два ученика, не понявшие до конца объяснения, им надо дополнительно объяснить в тот же день, чтобы они не отстали» {465} 465 Там же. С. 163; Колесникова О. За большевистское выполнение решений ЦК ВКП(б) и правительства о школе // Педагогический журнал. 1936. № 11-12. С. 35; Микельсон Р. М. Предупреждение отставания и ликвидация второгодничества // Советская педагогика. 1938. № 1. С. 87-88.
. Каждый ученик все время оценивался по каждому предмету; каждый учитель со всех сторон оценивался учениками. Такой системой оценок режим старался поставить под контроль образование и сделать учителей своими представителями (в их отношениях с учениками) и своими марионетками (в отношениях с государством) {466} 466 Об индивидуальном подходе в школах см.: Discipline, Moral Regulation, and Schooling. A Social History / Ed. K. Rousmaniere, K. Dehli, N. de Coninck-Smith. New York, 1997. P. 6-10.
.
Читать дальше
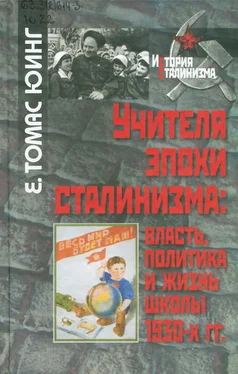






![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)