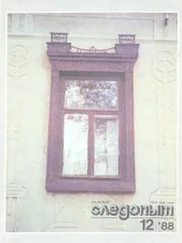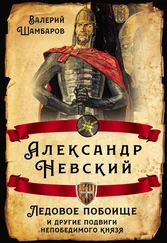Поэзия и реальность — вот извечный пример «единства и борьбы противоположностей», приводящий в недоумение историков и литературоведов.
В первую очередь это относится к самому «Слову о полку Игореве» и к его исторической основе. На протяжении последних десятилетий истолкование текста «Слова…», а вместе с тем и событий 1185 года шло исключительно под углом зрения «половецкой опасности» для Руси конца XII века. При этом исследователи закрывали глаза на дружеские связи князей и ханов, забывали межэтнические браки и их последствия, хотя Игорь Святославич был по крови (и, вероятно, по воспитанию и языку) на 3/4 половцем.
Не принималось в расчет и другое: с одной стороны — тесная дружба Игоря и Кончака, которая, как свидетельствует летопись, крепла год от года и завершилась женитьбой Владимира Игоревича на дочери Кончака, а с другой — ожесточенная усобица Игоря с Владимиром Глебовичем, князем Переяславльским, возникшая, кстати сказать, в результате именно этой дружбы.
И вот — парадоксальная ситуация: одни историки объявляют Игоря воином-героем, выступившем «за землю Русскую», а другие — «предателем русских национальных интересов».
А что было на самом деле?
Кроме текста «Слова…» современный историк располагает двумя версиями событий апреля — мая 1185 года в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Интересно, что и там освещение этих событий диаметрально противоположно.
Рассказ Ипатьевского списка повествует о случившемся наиболее подробно и с позиций, благоприятствующих новгород-северскому князю. Наоборот, краткое изложение того же сюжета в Лаврентьевском списке можно назвать в первой его части памфлетом — столько в нем неприязни к черниговским князьям и издевки над их пленением половцами.
Но вот что любопытно: попыткой военного похода рисует это предприятие только Лаврентьевский список, тогда как внимательное прочтение начала рассказа Ипатьевскою списка ставит такую посылку сразу же под сомнение. Оказывается, Игорь не «выступил», не «исполчился», не «вступил в стремя», как обязан был бы сказать летописец о начале военного похода, а всего только «поехал» из Новгорода, «взяв с собой» своего брата, племянника и старшего сына, Владимира Игоревича, который к этому моменту стал самостоятельным князем в Путивле, но не был женат. К тому же собравшиеся ехали «не спеша», совсем не заботясь о том, что об их поездке может кто-либо проведать.
Еще более удивительно выглядит эпизод со «сторожами», то есть разведчиками, которые, вернувшись, сообщили Игорю, что «виделись с ратными, ратницы ваши со доспехомъ ездять», поэтому надо или «поспешить» — куда? — или возвратиться домой, ибо «не наше есть время». Не правда ли, странная дилемма для собравшихся в набег? Причина этого могла быть только одна: сама поездка преследовала отнюдь не военные цели, то есть Игорь ехал не на войну, а к другу, и этим другом, как свидетельствует Ипатьевская летопись, начиная с 1174 года был Кончак. В 1180 году оба они участвуют в совместных боевых операциях в составе войск Святослава Всеволодовича, причем половцы специально просят определить их под начало Игоря; в 1183 из-за Кончака, которого Игорь не дал ограбить и пленить, между новгород-северским и переяславльским князьями развязывается кровавая усобица, к весне 1185 го. да всколыхнувшая и другие русские княжества.
Обычно полагают, что весной 1185 года пограничные русские земли ожидали набега половцев, которым нужен был полон для выкупа своих родственников, захваченных во время похода русских князей весной 1184 года. На самом деле, речь должна была идти о выкупе полона, захваченного войсками Святослава Киевского 21 апреля 1185, то есть за два дня до выступления Игоря из Новгорода-Северского, о чем Игорь просто не мог знать. Гзак, наткнувшийся на Игоря, как раз и шел на Русь за таким «обменным фондом», чтобы вызволить «свою братию». Вот почему, когда Игорь и его спутники оказались в плену, Гзак, если верить летописи, тотчас же послал в Киев гонца с вестью к князьям: или вы приходите к нам по свою братию, или мы идем к вам.
Но все это произошло несколько дней спустя. А пока в Степь были высланы дозоры. И здесь весьма примечателен ответ, который вкладывает в уста Игоря автор летописного рассказа, что, дескать, не столкнувшись с опасностью повернуть назад — «срам пуще смерти», то есть вернуться можно только при неизбежности боя. Тем самым здесь ясно сказано, что бой не был целью экспедиции. А что еще? Ведь ни опасность встречи с врагом, ни солнечное затмение, ни сопровождающие его зловещие знамения, столь ярко и поэтично описанные в «Слове…», ни предупреждение разведчиков не остановили Игоря и его спутников в их движении. Получается, что цель поездки была настолько важна, что зловещими приметами можно пренебречь.
Читать дальше
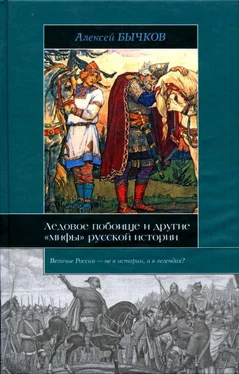



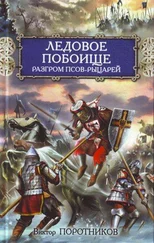

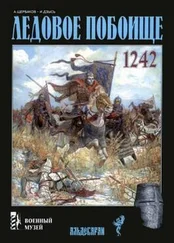
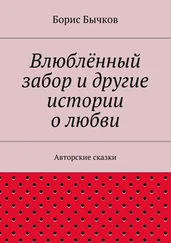
![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-thumb.webp)