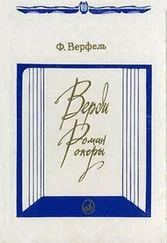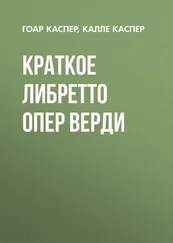Проблемы, видимо, удалось решить. По крайней мере роль осталась за Таманьо, с которым маэстро работал без устали, чтобы все было так, как он желал. А каким критичным стал бывший импровизатор в оценке деталей! «Передайте Фаччио [дирижеру. — Авт .], чтобы он не давал пока Таманьо разучивать его последнюю фразу в сцене с Дездемоной в третьем акте… Я эту фразу переписывал двадцать раз и все еще не могу найти правильную ноту… и может быть, я ее никогда не найду…» Возможно, что последнее предположение верно, ибо фраза осталась проблематичной. Она заканчивается в большинстве случаев бессвязным криком. Это действительно единственное место в опере, где над вокальным звучанием нависает угроза. В остальном, даже в самых взволнованных сценах, нет акцентов, которые требовали иных средств, чем чистое звуко-извлечение. Драма и музыка находятся в идеальном, редко достигаемом равновесии. Драматическая структура обеспечивает все возможности музыкальных контрастов, лирические точки успокоения, в которых опера нуждается не меньше, чем симфония. В первом акте такую точку успокоения вносит уже упоминавшийся любовный дуэт. Во втором необходимую разрядку дает поклонение селян Дездемоне, хоровая сцена, полная волшебного изящества и буколической умиротворенности. В третьем акте, который приводит драму к точке кипения, использовано давно оправдавшее себя оперное средство, большой финал, который, исходя из плавной мелодии largo, сводит все имеющиеся силы к монументальной кульминации. И первая половина заключительного акта, перед ужасной сценой убийства, отдана лирическому просветлению Дездемоны, ее песне об ивушке и молитве. Ничего более трогательного никто никогда не писал.
Этот акт начинается короткой прелюдией, которая переносит на инструментальное письмо ту же силу выразительности, которая присуща концентрированной пластике вокального стиля «Отелло». Эти тридцать три такта, накладываясь на восприятие ситуации драмы нашим сознанием, производят необычайно волнующее впечатление. У вокальной фразы песни Дездемоны об ивушке, из которой они исходят, когда ее поет английский рожок, есть что-то трогательно беспомощное. Устрашающей противоположностью ей, тоже своеобразной по своей характеризующей способности, является фраза сурдинированных контрабасов, черная как ночь фраза, с которой Отелло входит в спальные покои, оркестровый стиль «Отелло», его сочетание инструментальной краски с говорящей, заимствованной у вокального голоса артикуляцией заслуживают более подробного анализа.
Крепкое, временами жестокое звучание tutti оркестра в «Отелло», конечно, в какой-то степени следует приписать необычайной полнозвучности труб и тромбонов, которые входят в состав немецких оркестров, вместо требуемых Верди корнетов. Насколько решающим образом его манера инструментовки и его метод динамических обозначений способствуют естественной, выразительной фразировке исполнителей, знает каждый дирижер. Понадобилось пятьдесят лет непосредственного общения со всеми тайнами оркестровой ямы, чтобы достичь такого совершенства.
Можно понять, как противился Верди неприемлемому с точки зрения его принципов настойчивому пожеланию включить во французскую редакцию «Отелло», предназначенную для «Гранд Опера» (перевод сделал сам Бойто вместе с дю Локлем), балет перед большим финалом в третьем акте. «Это уступка, — пишет он издателю Рикорди — lachete [288] Малодушие (франц).
, которую авторы, к сожалению, делают по отношению к «Опера». В самый разгар страстей перебить действие балетом?!!» Но, как часто бывало и раньше, он дал себя уговорить, написал балетную музыку и даже хореографические указания к ней. Но в напечатанную партитуру балетную музыку он включить отказа лея, и был прав, настояв на этом. Она совершенно выпадает из рамок оперы и по праву почти забыта. В противоположность беззаботным замашкам молодых лет Верди давно уже осознал ответственность, которую несет публикация произведения.
Мы не знаем, кто первым подал мысль о следующей работе, Бойто или Верди. После триумфального успеха «Отелло» они сохранили тесные контакты. Бойто был частым гостем в «Сайт-Агата». Почти пятьдесят лет назад Верди потерпел с комической оперой самую большую неудачу своей жизни. Он дал понять, что у него всегда было желание вытравить это клеймо. В июле 1889 года, более чем два года спустя после премьеры «Отелло», Бойто предложил ему набросок сцен к «Фальстафу». Верди восхищен, но, как всегда, находит отговорки. Бойто приводит убедительный аргумент: «Есть единственная возможность найти еще более прекрасное завершение пути, чем «Отелло». Это победоносный «Фальстаф». После того как отзвучали все плачи и вопли от боли человеческого сердца, распрощаться могучим взрывом веселья! Вот это было бы достойно удивления!
Читать дальше
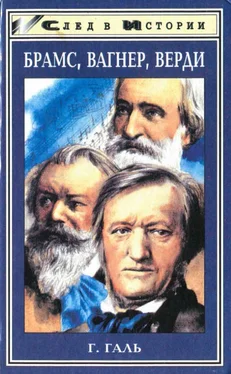
![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/95480/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod-thumb.webp)