Я понял, что попался. И ответил туманно: как и все. Старушка предложила мне еще стакан чаю. Потом поговорили о том, о сем. Потом старушка вышла на кухню, старичок последовал за ней. Что-то шептались. У меня на душе было неуютно: вот проболтался! Но оба супруга скоро вернулись на веранду, и на меня свалилась манна небесная:
- У нас, видите ли, - сказал старичок, - кое-какое помещение есть, только, может быть, дороговато для вас будет - тридцать пять рублей в месяц, две комнаты.
Я не верил своему счастью: в Москве я платил, правда, пятнадцать рублей, но одни клопы чего стоили! И там была одна комната, здесь две. Потом оказалось, что был еще и коридор, который тоже мог сойти за комнату. Все это помещалось в мансарде, стены были из грубо отесанных сосновых бревен, в центре всего этого стояла огромная, дебелая, материнская уютная кафельная печь, которая грела души наши в течение шести суровых московских зим. Во дворе была банька, в которой перед нашим въездом в пристанище капиталистической анархии мы смыли с себя наслоение московской социалистической эпохи и прошпарили паром наши вещи. Словом, почти рай. Я с тех пор - до самого Берлина - ни разу не имел дел ни с какими домкомами. Меня никто не тащил на собрания жильцов. Меня никто не заставлял контролировать хозяйственные действия товарища Руденко, владельца частнохозяйственной дачи в Салтыковке. Когда я, усталый и голодный, возвращался домой, никто не стучал в мои двери, вызывая меня на собрания, посвященные вопросам озеленения детей и заготовки мусора. Каким-то таинственным образом крыша не текла сама по себе, мусор исчезал, как кролик в рукаве престижидидатора: таинственно, бесследно и, главное, бесшумно, без всякого участия "широкой общественности", сам по себе. В дни, предначертанные Господом Богом, приходил трубочист и чистил мою печку. Если у меня в это время оказывалась рюмка водки - обычно она оказывалась, - я предлагал ее трубочисту. Но этим мои связи с профессиональным союзом трубочистов и ограничивались. Вообще был рай: не было ни бумажек, ни собраний, ни общественности, ни самодеятельности, было очень нище, очень просто, но по-человечески организованное человеческое жилье. А не клопиное социалистическое стойло. И, кроме того, рядом с товарищем Александром Руденко на моем горизонте появился гражданин Иван Яковлев - на этот раз уже не товарищ, а только гражданин, не "инвалид труда", в какого ухитрился превратить самого себя Руденко, а откровенно хищная, хотя и микроскопическая акула капитализма.
Рядом с железнодорожной станцией как-то внезапно выросло странное сооружение из латаного полотна, старых досок и кровельного толя. Вокруг этого сооружения вертелся какой-то неизвестный мне рваного вида человек. Потом на сооружении появилась вывеска: "Съестная палатка. Иван Яковлев". Потом в этой палатке появилось приблизительно все, что мне было угодно: яйца и сосиски, картофель и помидоры, селедка и хлеб. Все это без всяких карточек. Без всяких очередей, удостоверений брака, гнили и плана. Все это было чуть-чуть дороже, чем в советских кооперативах. Потом стало чуть-чуть дешевле. Но покупая десяток яиц, я был твердо уверен, что ни одного пятака я не заплатил ни за одно гнилое яйцо. Потом стало намного дешевле. Потом кооперативы умерли. Имейте, впрочем, в виду, кооперативами они не были никогда, ибо ими управляли не частные пайщики, а правительственные чиновники. Во всяком случае, государственная торговля автоматически скончалась, и гражданин Яковлев почти так же автоматически переехал со всеми своими сосисками в помещение бывшего ТПО - транспортного потребительского общества. Даже и на службе меня перестали тащить на кооперативные собрания, предлагать контролировать заготовки яиц и вообще проявлять какую бы то ни было самодеятельность в области дел, которые меня не касались. Я получил, наконец, некоторую возможность заняться теми делами, для которых я, собственно, и был нанят: за организацию спорта, а не вывозки мусора, вставки стекол, заготовки яиц, общественного контроля над кооперативной сапожной мастерской. Правда, кое-что еще осталось. От собраний в стиле Международного общества помощи жертвам реакции (МОПР) я не мог отделаться до конца своих дней. Общества помощи жертвам революции в Советской России по понятным причинам не было.
Я чувствовал себя, почти как птица небесная. Или во всяком случае как человек, кое-как выкарабкавшийся из помойной ямы. За мои заботы о благосостоянии и о мускулах советских спортсменов мне кто-то платил очень скудные деньги. Недостающие я добывал путем фоторепортажа, спортивной хроники в газетах и прочими такими частнокапиталистическими способами. Я нес эти деньги товарищу Руденко, который без всякого бюрократизма снабжал меня стенами и крышей, и гражданину Яковлеву, который без собраний и очередей снабжал меня селедками и прочим.
Читать дальше

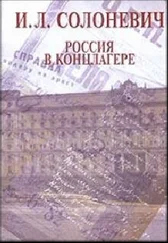




![Иван Ильин - Национал-социализм - 1. Новый дух [дореформенная орфография]](/books/403407/ivan-ilin-nacional-thumb.webp)
![Иван Солоневич - Россия в концлагерe [дореволюционная орфография]](/books/420858/ivan-solonevich-rossiya-v-konclagere-dorevolyucionna-thumb.webp)
