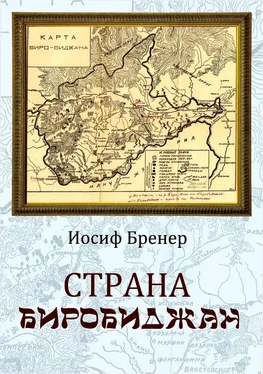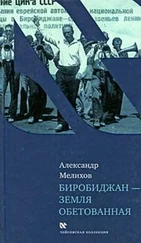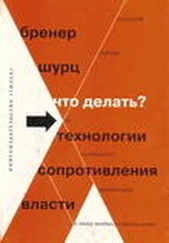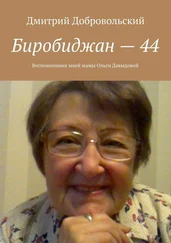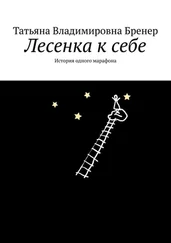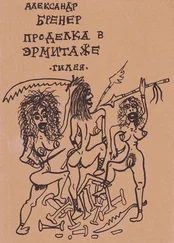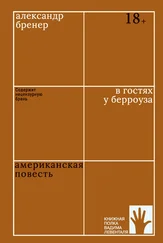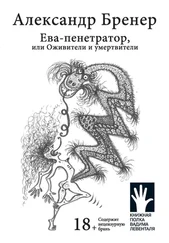— Вам нравится? — спросил он. — Это я сегодня перевел; кажется, получилось…
Мы подошли к сопке и стали на нее взбираться. Казакевич знал здесь каждую тропинку, каждый кустик, что здесь растет и как оно называется. «Тополь, — рассказывал он, — растет очень быстро, мы насадим его в городских скверах и вдоль улиц».
Ещё тогда, когда контуры города еле обозначались, он видел вокруг себя широкие асфальтированные улицы, скверы и парки.
Мы отдохнули и закусили. Казакевич устроился в тени большого дерева и долго смотрел на тонкий ручеек, который омывал подножие сопки, вслушивался в шум тайги, казалось, впитывал в себя красоту окружающей природы.
Когда мы возвращались домой, он спросил: «Хотите послушать?»
— и стал читать свое новое стихотворение «Слово имеет гражданка тайга». Это стихотворение переросло потом в поэму, но начало ее я услыхала в тот день у Бирофельдской сопки. Уже тогда он спорил с тайгой и был уверен, что советские люди воздвигнут здесь город с промышленными предприятиями и стройками ».
В этой же книге, в рассказе писателя Я. Черниса «В таёжном краю», я вновь натолкнулся на упоминание событий, разворачивавшихся в этом же месте.
« Осенью 1934 года, — пишет Яков Чернис, — в Биробиджан приехала группа писателей, совершавших поездку по Дальнему Востоку: Александр Фадеев, Петр Павленко, Рувим Фраерман и венгерский поэт Антал Гидаш. На предприятиях их радушно встречали трудящиеся города. Гости живо интересовались новостройками и культурной жизнью области. А ночь они захотели провести в тайге. Выехали в одно из живописнейших мест — на двадцать третий километр дороги из Биробиджана в Ленинское.
Как раз в этот день я, тогда секретарь Ленинского райкома комсомола, приехал на «козлике» в Биробиджан. Эма встретил меня в обкоме комсомола. Узнав, что я на легковой машине, он несказанно обрадовался:
— Все, ты уже пропал, и твоя машина тоже пропала.
Выяснилось, что надо доставить его и отца на двадцать третий километр. Они не уехали вместе с гостями, ибо Генрих Казакевич задержался на бюро обкома партии. В Биробиджане стояло бабье лето. Тайга нарядилась в золото и медь. Придорожные кусты были пунцово-красные, а ели и сосны на общем фоне казались только что выкрашенными свежей зеленой краской.
Когда мы приехали к месту, облюбованному гостями, солнце уже садилось. Разложили большой костёр, и Фадеев преподал нам урок приготовления мяса на костре. Пили кислое вино, закусывали жареным мясом. У костра стояла корзина с только что собранным диким виноградом. Он уже не был терпко-кислым, холодные ночи как бы присладили его.
Пошли разговоры. По правде говоря, сквозь столько лет память не сохранила в подробностях все, о чём говорилось и рассказывалось. Но хорошо помню, что незаметно инициатива перешла к Эме. Он рассказывал, а все с удовольствием слушали и смеялись ».
После войны в этот небольшой посёлок на двадцать третьем километре завезли группу японских военнопленных, напоминанием о которых осталось кладбище на вершине сопки. Таких японских кладбищ на территории нашей области было чуть больше десяти. Я знал лишь о трёх из них. Самые большие были в Облученском районе, где захоронены были только в районе сёл Кульдур и Известковое около двух с половиной тысяч человек в каждом.
С японскими захоронениями на территории области я столкнулся, когда работал управляющим Агентством «Интурист» в Биробиджане. Летом 1989 года мне пришлось принимать большую группу туристов из Японии, состоявшую в основном из бывших военнопленных. Туристы прибыли из Хабаровска, и маршрут их пролегал по тем местам, где они после войны сидели в лагерях и работали на стройках народного хозяйства. В нашей области, согласно программе пребывания этой группы, были обозначены два кладбища: одно находилось в пяти километрах от Биробиджана и другое, большое захоронение, — в селе Известковом.
После того, как мы посетили эти кладбища, где были проведены поминальные обряды и вернулись в гостиницу, ко мне обратились три пожилых японца. Заметно волнуясь, убелённые сединой японцы, которым было давно за семьдесят, на вполне понятном русском языке попросили помочь организовать для них машину, чтобы съездить на двадцать третий километр бирофельдской трассы, где они сидели в лагере для военнопленных. Это было для меня неожиданным, так как я ничего не слышал об этом месте, хотя десятки раз проезжал мимо на машине. Я даже переспросил, а не перепутали ли они, что там был лагерь. Их уверенность не вызывала сомнений, и мне оставалось дать им машину и водителя. Через несколько часов они вернулись и выразили благодарность за организацию поездки, а водитель рассказал мне, что японцы хорошо ориентировались на трассе и попросили остановить машину на съезде с дороги, который был как раз на двадцать третьем километре. Дальше он проехать не смог, и они пошли по тропе к небольшой заросшей травой полянке, на которой уже не было видно никаких строений. Тем не менее, обойдя её, они нашли там старую скрученную алюминиевую ложку, куски колючей проволоки, какие-то обгоревшие доски. Остановившись в центре поляны, они зажгли коричневые свечи, которые испускали странный тонкий белый дым, и провели молитву в память о не вернувшихся домой товарищах. Тогда я впервые от них узнал об одной из «достопримечательностей» этого двадцать третьего километра.
Читать дальше