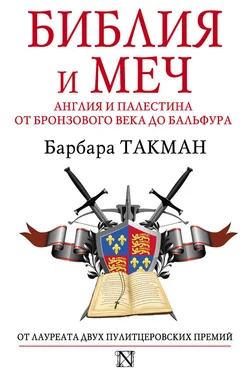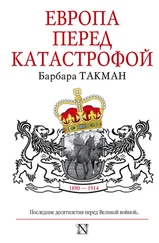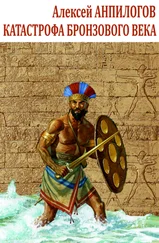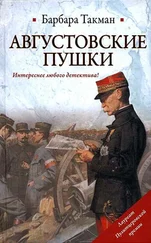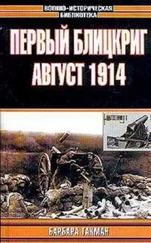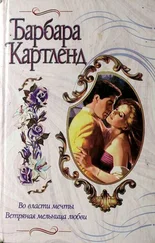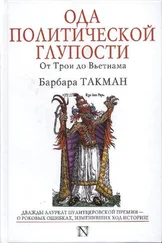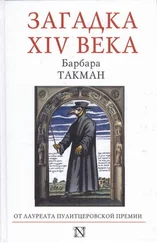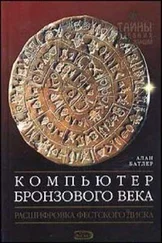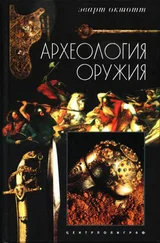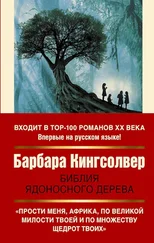В предисловии к законченному тексту, который увидел свет в 1611 г., «работники», как назвали себя переводчики и редакторы, просто заявляют, что постарались «улучшить хороший перевод или из многих переводов сделать один принципиально хороший, таково было наше старание, и вот плоды нашего труда». Они утверждали, что не чурались «пересматривать то, что мы делали, и возвращать на наковальню то, что выковали». Не связывали они себя и строгой обязанностью употреблять в точности то же самое английское слово всякий раз, когда в тексте оригинала встречалось то же самое слово, «ибо неужто царство Божие должно превратиться в слова или слоги?» Благодаря такой свободе языка удалось сохранить труд их предшественников. На деле первое из 13 правил закрепляло заданный Тиндейлом стиль, недвусмысленно приказывая «следовать [Епископской Библии] и отступать лишь в малом, когда дозволит истина оригинала». Данные переводчикам инструкции свидетельствуют о том, насколько, по сути своей, честной была попытка как можно ближе подойти к оригинальному смыслу, записанному тысячелетия назад в Палестине, насколько поразительно свободным от догматичности получился перевод. Например, имена пророков и все прочие личные имена следовало «сохранить как есть, в соответствии с тем, как они простонародно используются». Личные толкования воспрещались правилом № 6: «Нельзя создавать никаких заметок на полях, только лишь в разъяснение еврейских или древнегреческих слов». Наконец, в предисловии ученые признавали, что постоянно старались держаться подальше и от «педантичности пуритан», и от «невнятности папистов» и были тверды в своем намерении, чтобы «Писание говорило само за себя, как на языке ханаанском, дабы могло быть понято любым простолюдином». В этом они преуспели, и это увенчало их славой, поскольку их Библия была не только понята всеми, от самых образованных до «самых простонародных», но и снискала широкую известность и любовь англичан.
Глава VI
Предприимчивые Купцы в Леванте
В эпоху Великих географических открытий, когда Европа во все стороны раздвигала свои границы, елизаветинские мореплаватели и купцы шли в авангарде. Эти «смутьяны морей и первопроходцы в далеких частых света, — похвалялся автор сборников о путешествиях елизаветинской эпохи Хаклюйт, — превзошли все страны и народы на земле» 1.
«Ибо знамена какого короля нашей страны до Ее Величества, — продолжал он, — видели в Каспийском море? Кто из них вел дела с императором Персии, как делала Ее Величество, и заручился для своих купцов великими и выгодными привилегиями? Видывал ли кто до сего правления английского купца на величественной веранде великого синьора Константинополя? Находил ли кто-либо английских консулов и агентов в сирийских Триполи, в Алеппо, в Вавилоне и в Бальсаре? Бросали ли якорь английские корабли на берегах могучей реки Плато… причаливали ли к Лусону, невзирая на происки врага… торговали ли с князьями Молуккских островов… И под конец возвращались домой, богато нагруженные товарами из Китая, как делали это поданные сей ныне процветающей монархии».
Возвращение домой «богато нагруженными» было решающим фактором елизаветинской экспансии. Мотивом первооткрывателей была торговля, а целью — товары Востока. Роль Палестины как Святой земли на время позабылась, а сама Палестина стала всего лишь промежуточным звеном в торговле, открытой с Османской империей. Крестоносцы, погоняемые жаждой рубить головы туркам, уступили место нагруженным дарами послам, которые выманивали у турок торговые привилегии любезными словами и обещаниями. В ходе торговых и дипломатических отношений, завязавшихся между Англией и Османской империей в то время, закладывались основы будущего стратегического вмешательства Англии в дела Ближнего Востока.
Корона вступила в партнерство с купцами и мореплавателями, субсидируя их экспедиции и получая немалую прибыль по их возвращении. Прежде всего от этого выиграл английский флот. По мере того как расширялась торговля, все больше и больше строилось кораблей, чтобы ее вести, и готовилось матросов, чтобы на этих кораблях плавать.
Тем временем вместе с флотом развивался другой инструмент империи — компании, получившие королевскую хартию. Основанные группой купцов и предпринимателей, такие компании получали права монополии на торговые привилегии в отдельных областях в обмен на ежегодную дань короне. Первой королевскую хартию получила в 1554 г. Московская торговая компания, второй была Левантская компания, получившая в 1581 г. хартию на торговлю во владениях «великого синьора», султана Османской империи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу