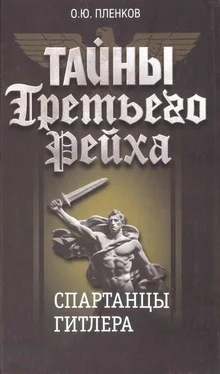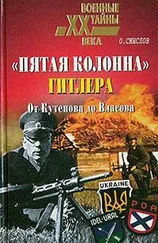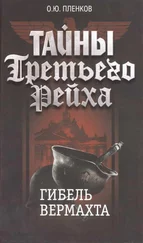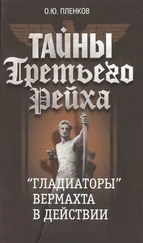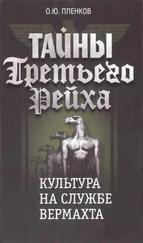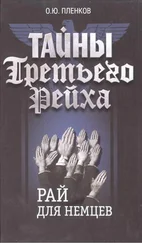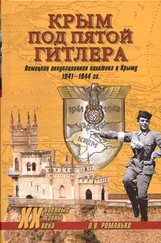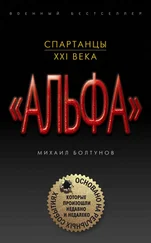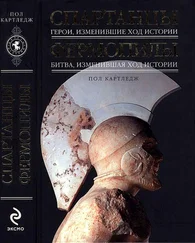С помощью концлагерей, пыток и убийств полицейский аппарат боролся не только с «политическими», но занимался «профилактической борьбой с преступностью»: сначала в небольших масштабах, затем — устраивая облавы, вследствие которых число людей «асоциального поведения» и рецидивистов, помещенных в концлагеря, выросло с 2848 в конце 1937 г. до 12 921 в конце 1938 г. Несмотря на это, число особо тяжких преступлений с 1933 г. по 1939 г. выросло более чем в 10 раз. Тому способствовала сама система правосудия, которая не дифференцировала вины, осуждая людей в соответствии с их расовой принадлежностью или индивидуальными особенностями. Все было подчинено принципу «общее благо выше личного» (Gemeinnutz geht vor Eigennutz), иными словами, права отдельных людей были подчинены коллективным интересам. Нацистское правосудие вовсе не учитывало не отмененную при Гитлере конституцию Веймарской республики, гарантировавшую, между прочим, свободу вероисповедания и политические свободы. Высшим законом в Третьем Рейхе стала воля фюрера и интересы «народной общности» (Volksgemeinschaft), которые формулировал тот же фюрер… Каким образом он трактовал существо этих интересов в рациональных понятиях выразить было невозможно, поэтому от судей требовали «национальной укорененности» и «народности». Принадлежность к «народной общности» в конечном счете определялась расой, приобретая в этой связи все большее значение.
Недовольные «неповоротливостью» судов в борьбе с «врагами государства», подопечные Гейдриха постепенно перешли к систематической проверке и перепроверке их работы. С апреля 1935 г. по приказу Гейдриха стали составлять списки неудовлетворительно мягких приговоров, по которым затем делали выводы либо о политической близорукости судей или прокуроров, либо об их враждебности национал-социалистическому государству. Часто решения судов «корректировали», отправляя оправданного человека в концлагерь или в тюрьму. В войну судопроизводство ужесточилось, «особые суды» расширили свои полномочия. Такие преступления, как утаивание продуктов питания (например, несанкционированный убой скота), прослушивание вражеского радио или помощь военнопленным — карались тюрьмой или каторгой. Чтобы высвободить больше людей для отправки на фронт, мелкие окружные суды упраздняли, следовательно, полномочия все больше переходили к «особым судам» {435} 435 Angermund R. «Recht ist, was demVolknutzt». S.69.
. Например, в 1943 г. «особые суды» Гамбурга и Бремена брали на себя 73% всех судебных процессов. В военных законах туманно толковались понятия некоторых преступлений. Так, не было точно определено, что такое «ограбление» в обстоятельствах, связанных с войной. Все четыре статьи закона судьи могли толковать совершенно свободно и за одно и то же преступление, например, присвоение чужой собственности во время налета вражеской авиации — можно было получить смертную казнь или 15 лет каторги. Число преступлений, каравшихся смертью, увеличилось к 1943 г. до 46. Начало массовых бомбежек немецких городов повлекло за собой увеличение приговоренных к смерти: в 1941 г. их было 1292, в 1942 г. — 3660, в 1943 г. — 5336. {436} 436 Angermund R. «Recht ist, was demVolk nutzt».S.70.
Какие же конкретно преступления заслуживали смерти? 26 июня 1943 г. служащая военного завода, вдова солдата, была осуждена на смерть за такой анекдот: Гитлер и Геббельс стоят на смотровой площадке берлинской башни для радиоантенн. Гитлер спрашивает, какую бы радость доставить немцам? Геббельс отвечает: спрыгнуть с башни… Несчастной еще припомнили, что она поддерживала контакты с чешскими рабочими и в разговорах с ними предсказывала поражение в войне. 23 октября 1943 г. «особый суд» Вупперталя осудил на смерть некоего инвалида за то, что на руинах после бомбежки он нашел и присвоил полотенце и серебряную ложку. Некий строительный рабочий украл и продал в общей сложности около 70 велосипедов; другой рабочий сбывал поддельные карточки на одежду и спекулировал радиоприемниками. «Особым судом» в Вуппертале оба были приговорены к смертной казни; 31 августа 1942 г. и 22 мая 1943 г. соответственно. Некий литовский рабочий взял на улице три алюминиевые миски, выкатившиеся из разбитой бомбой лавки. 8 марта 1943 г. «особый суд» Эссена, указав на тяжелые моральные последствия грабежей при бомбежках, приговорил несчастного к смерти. «Остов», то есть рабочих из Восточной Европы, могли приговорить к смерти и за более ничтожные проступки {437} 437 Angermund R. «Recht ist, was demVolk nutzt».S.71.
.
Читать дальше