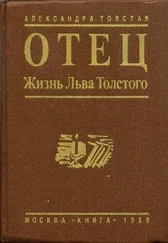А между тем жар у отца все усиливался и усиливался. Заварили чай и дали ему выпить с красным вином, но и это не помогло, озноб продолжался.
Не могу описать состояния ужаса, которое мы испытывали. В первый раз я почувствовала, что у нас нет пристанища, дома. Накуренный вагон второго класса, чужие и чуждые люди кругом и нет угла, где можно было бы приютиться с больным стариком.
Проехали Данков, подъехали к какой-то большой станции. Это было Астапово. Душан Петрович убежал и через четверть часа пришел с каким-то господином, одетым в железнодорожную форму. Это был начальник станции. Он обещал дать в своей квартире комнату, где можно было уложить больного, и мы решили здесь остаться. Отец встал, его одели, и он, поддерживаемый Душаном Петровичем и начальником станции, вышел из вагона, мы же с Варварой Михайловной собирали вещи.
Когда мы пришли на вокзал, отец сидел в дамской комнате на диване в своем коричневом пальто, с палкой в руке. Он весь дрожал с головы до ног, и губы его слабо шевелились. Я предложила ему лечь на диван, но он отказался. Дверь из дамской комнаты в залу была затворена и около нее стояла толпа любопытных, дожидаясь прохода Толстого. То и дело в комнату врывались дамы, извинялись, оправляли перед зеркалом прически и шляпы и уходили.
Душан Петрович, Варвара Михайловна и начальник станции ушли приготовлять комнату. Мы сидели с отцом и ждали.
Но вот за нами пришли. Снова взяли отца под руки и повели. Когда проходили мимо публики, столпившейся в зале, все сняли шляпы, отец, дотрагиваясь до своей шляпы, отвечал на поклоны. Я видела, как трудно ему было идти: он то и дело пошатывался и почти висел на руках тех, кто его вел.
В комнате начальника станции, служившей ему гостиной, была уже поставлена у стенки пружинная кровать, и мы с Варварой Михайловной принялись стелить постель. Отец сидел в шубе и все так же зяб. Когда постель была готова, мы предложили ему раздеться и лечь, но он отказался, говоря, что не может лечь, пока все не будет приготовлено для ночлега так, как всегда. Когда он заговорил, я поняла, что у него начинается обморочное состояние. Ему, очевидно, казалось, что он дома и он удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык…
— Я не могу лечь. Сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул.
Когда это было сделано, он стал просить, чтобы на столик поставили свечу, спички, записную книжку, фонарик и все, как бывало дома. Когда сделали и это, мы снова стали просить его лечь, но он все отказывался. Мы поняли, что положение очень серьезно и что, как это бывало и прежде, он мог каждую минуту впасть в полное беспамятство. Душан Петрович, Варвара Михайловна и я стали понемногу раздевать его, не спрашивая более, и почти перенесли на кровать.
Я села возле него, и не прошло пятнадцати минут, как я заметила, что левая рука его и левая нога стали судорожно дергаться. То же самое появлялось временами в левой половине лица.
Мы просили начальника станции послать за станционным доктором, который мог бы помочь Душану Петровичу. Дали отцу крепкого вина, поставили клизму. Он ничего не говорил, стонал, лицо было бледно, и судороги, хотя и слабые, продолжались.
Часам к девяти стало лучше. Дыханье было ровное, спокойное. Отец тихо стонал.
Станционный доктор, сам совершенно больной человек, ничем не мог помочь нам. Но присутствие его, очевидно, было приятно Душану Петровичу, облегчая его положение. С доктором пришла его жена. Она тяготила нас, так как желала сидеть в комнате больного, надоедала своими советами, расспросами и всем мешала.
Отец проснулся в полном сознании. Подозвав меня, он улыбнулся и участливо спросил:
— Что, Саша?
— Да что ж, нехорошо. — Слезы были у меня на глазах и в голосе.
— Не унывай, чего же лучше: ведь мы вместе.
К ночи стало легче. Поставили градусник, жар быстро спадал, и ночь отец спал хорошо.
Разумеется, никто из нас не раздевался и мы по очереди сидели у постели отца, наблюдая за каждым его движением. Среди ночи он подозвал меня и сказал:
— Как ты думаешь, можно будет нам завтра ехать?
Я сказала, что, по-моему, нельзя, придется в самом лучшем случае переждать еще день. Он тяжело вздохнул и ничего не ответил.
— Ах, зачем вы сидите? Вы бы шли спать! — несколько раз в течение ночи обращался он к нам.
Иногда он бредил во сне:
— Удрать… Удрать… Догонять…
Он просил не сообщать в газеты про его болезнь и вообще никому ничего не говорить о нем. Я успокаивала его.
Читать дальше
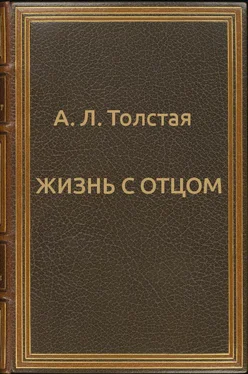
![Иноуэ Хисаси - Жизнь с отцом [=Радуги над Хиросимой]](/books/64541/inoue-hisasi-zhizn-s-otcom-radugi-nad-hirosimoj-thumb.webp)