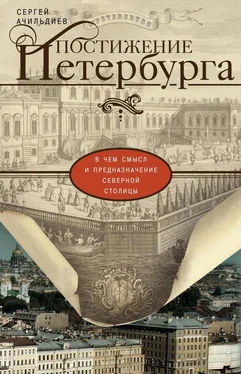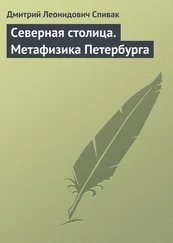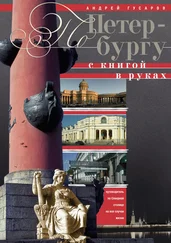В состоятельных домах гувернёрами и гувернантками обычно служили французы. «Две профессии в Петербурге считались татарскими по преимуществу: дворники и официанты» [20. С. 298]. Потом к ним прибавилась профессия старьёвщика — знаменитые на весь город «халатники» заходили в каждый двор, выкрикивая: «Халат-халат!»; нередко их так и называли — «халат-халат». В пореформенное время среди врачей часто встречались евреи…
Уже во второй половине 1940-х годов появился короткий анекдот: «В Ленинграде из всех финнов остались только фининспекторы». Историческая подоплёка этой шутки заключалась не только в том, что с началом Советско-финляндской войны, а затем Великой Отечественной из города выдворили всех финнов, но и в том, что прежде их всегда было очень много. В XIX веке финны составляли две трети городских трубочистов, к концу 1860-х годов — почти половину ювелиров [8. С. 401]. После 1885 года, «в связи с неудачным начинанием российских предпринимателей по созданию речных пароходств, финны, имевшие уже большой опыт по перевозке на малых судах пассажиров и грузов из Кронштадта в Петербург. стали владельцами практически всех городских пароходств, что позволило им диктовать выгодные для них условия по оплате перевозок» [18. С. 84]. Ну, а самыми надёжными и дешёвыми извозчиками были вейки. Про финских извозчиков в Петербурге даже сложилась поговорка: «Хоть Шпалерная, хоть Галерная — всё равно ридцать копеек» [21. С. 601].
И ещё в одной профессии финны долгое время считались непревзойдёнными мастерами. Все мы со школьной скамьи помним описание утренней северной столицы, какой её видит Онегин, едущий «в постелю после бала»: «С кувшином охтенка спешит, / Под ней снег утренний хрустит». Пушкин даже не говорит, а что же, собственно, несёт охтинка в своём кувшине, потому что каждый петербуржец и без того прекрасно знал — молоко. Ту же картину, но уже начала 1880-х годов и более подробно, описывает в своих воспоминаниях Александр Бенуа: «…охтинские молочницы. шли по утрам целыми взводами с коромыслами, на концах которых побрякивали жестяные кружки с молоком, и с корзинами масла и творога за спиной. То были или подлинные чухонки, или русские бабы и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подделаться под чухонок, дабы заслужить большее доверие покупателей — ведь особенно славилось именно чухонское масло. “Ливки”, “метана", “ворог”, “яйца вежие” — звонко выкликаемые чухонками — вызывали представление о чём-то чрезвычайно доброкачественном и заманчивом» [3. Т. 1. С. 339].
Никто в Петербурге не удивлялся, когда в уличной толпе, в магазине или простой лавке, в ресторане или трактире звучала иностранная речь. В 1768 году, по распоряжению Екатерины II, на домах первые в городе указатели с названиями улиц были вывешены не только на русском, но и на немецком языке. Нередко чужеземные слова прочно входили в обыденную столичную речь. К этому привыкли ещё с петровских времён, когда, «по подсчётам лингвистов, русская лексика пополнилась 4260 новыми иностранными словами», что составило более половины всех заимствований, пришедшихся на XVIII столетие [1. С. 28]. Достаточно вспомнить надолго закрепившиеся в петербургском обиходе слова, привнесённые финнами: так, финских извозчиков привычно называли «вейками» (veikko — братец, дружище), лыжные ботинки — «пьексами» (pieksut), а наборные ножи, сани для парной езды с длинными полозьями и шапки с длинным козырьком — финскими.
Несмотря на то что в те или иные времена отдельным категориям инородцев (как иностранцев, так и подданных империи) запрещалось проживать в Петербурге, всё же вплоть до начала советской паспортизации он был поистине открытым городом. Многие самодержцы вслед за Петром I рады были зарубежным гостям. Особенно Екатерина II, утвердившая в 1763 году манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Государство гарантировало свободу веры не только христианам, но также мусульманам, иудеям, даже язычникам.
Один из законов империи гласил: «Да все народы, в России пребывающие, славят Бога Всемогущего разными языки по закону и исповеданию праотцев своих, благословляя царствование Российских монархов и моля Творца вселенной о умножении благоденствия и укреплении империи» [26. С. 173–174].
И снова надо уточнить: это была всего лишь свобода веры, но не свобода совести. По меткому замечанию Астольфа де Кюстина, «терпимость к иноверной церкви в России не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и всё остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что дал сегодня» [14. С. 82].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу