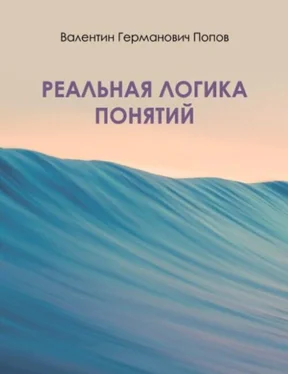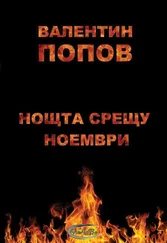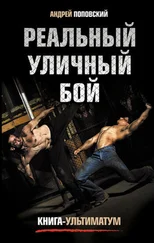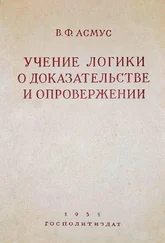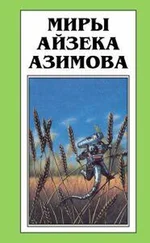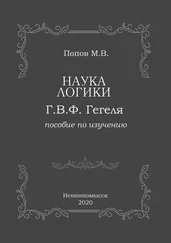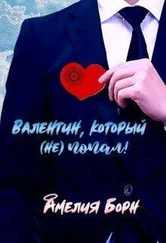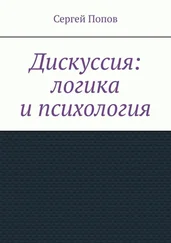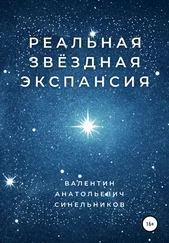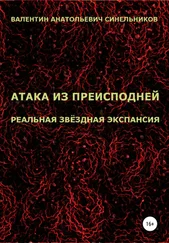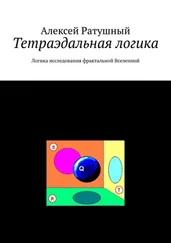Хотя Платон и отвергал всякого рода пророчества, но его вера в рациональность знания, в конечном счете, остается не более чем благим пожеланием и также верой своего рода. Что же находит Платон рационального в том знании, которое он называет философским? Как выясняется в некоторых диалогах, это приписывание предмету какого-нибудь свойства либо отношения или, с позиции формальной логики, связывание того или иного субъекта суждения с каким-нибудь предикатом. Но всякое ли предицирование рационально с этой позиции? Оказывается, нет, ибо именно в платоновской философии получило распространение так называемое «самопредицирование». Например, «подобное само себе подобно, а неподобное – неподобно», «великость сама велика» и пр. Связывание того или иного субъекта с тем или иным предикатом, как в Новое время учили философы материалистического направления, должно быть «объективно обоснованным», что, правда, также не избавляло их от суждений подобного рода. Только при соблюдении первого начала логики – закона достаточного основания, который, кстати, впервые сформулировал современник Платона Демокрит, и с которым, как подтверждают исследования Евы Закс и Эриха Франка (соответственно 1917 и 1923 гг.), Платон был в добрых отношениях, суждения будут рациональными – истинными или ложными. Именно эта проблематика обсуждается в ранних платоновских диалогах – «Евтидем», «Гиппий меньший» и «Алкивиад I», но не с позиции диалектики, а методически удовлетворяющих сократовской майевтике. Таким образом, если иметь в виду теорию идей зрелого Платона и разыскивать в трудах раннего Платона ее предварительную разработку, облаченную впоследствии в пифагорейскую мистику и метафизический догматизм, то их не следует искать в философии Сократа.
Как станет ясно впоследствии, назначение платоновской идеи – отображение в мыслительной форме неизменяющегося (инвариантного) в изменяющихся множествах вещей, событий и их отношений; отсюда существенным оказывается понимание взаимоотношения единичного (индивидуального), частного (видового) и общего (родового), что и составляло лейтмотив собственно сократовской философии. В качестве иллюстрации указанных взаимоотношений обратимся к диалогу «Евтидем», который посвящен критике софистической «мудрости» и ее ложных методов. Завязкой диалога служит вопрос о том, что такое знание и как его можно приобрести. На предварительном этапе обсуждения вопроса о природе знания собеседники приходят к выводу, что приобрести знание можно только посредством философии. Дословно: «Философия же – это приобретение знания» [21] Платон. Указ. соч. Т. 1. "Евтидем". 288 d .ы
. Если согласиться с тем, что это дефиниция понятия «знание», то необходимо дать логическое определение «философии», которая выступает в данном определении родовым понятием. «Философия», как известно, означает «любовь к мудрости», что, очевидно, не является ее определением. Следовательно, далее дискуссия должна идти о природе философии как средстве и способе приобретения знания. Поскольку философия, согласно Сократу, требует точности, то необходимо отбросить все те частные виды знания, которые не являются философией, и Сократ безжалостно расправляется со знанием врачей, землепашцев и даже удачливых золотоискателей: все эти виды деятельности, определяемые как конкретные виды знания, ни дурные, ни благие. И вот его резюме: «Все, что мы сказали, весьма напоминает пословицу “Коринф – сын Зевса” и нам $снова недостает стольких же слов и даже гораздо большего их числа, для того чтобы узнать, какое именно знание делает нас счастливыми» (292 е). [22] 2 Далее цитаты из диалога "Евтидем" мы будем обозначать в скобках в тексте.
Сократ этой поговоркой показывает двусмысленность «философского знания», так как Коринф – это не сын Зевса и дочери Атланта Электры, но всего лишь название города. Иначе говоря, вопрос Сократа, касающийся сущности философии, следовательно, и знания, ею приобретаемого, повисает в пустоте. Философское знание не рационально, как в этом был уверен Платон, но субъективно, и это положение в рамках данного диалога в полной мере показали софисты, что подействовало на Сократа обескураживающим образом. При помощи философии, как решили Сократ и Критон еще до спора с софистами, приобретается знание как таковое, но поскольку становится неясным, что есть знание, то становится неясным и путь его приобретения. А именно: это искусство является не тем, за что его выдают философы, следуя коринфянам, выдающим себя за прямых родственников Зевса и Электры. Но при этом возникает второй вопрос: может ли философия принести хоть какую-то пользу, как, например, знание лекаря, и если не сделать человека счастливым, то хотя бы разрешить его какие-то проблемы?
Читать дальше