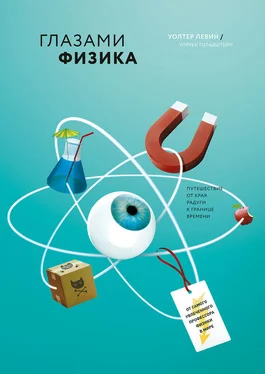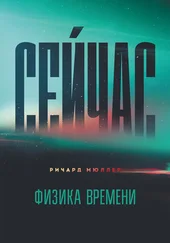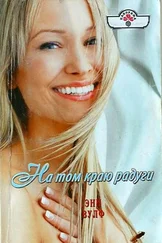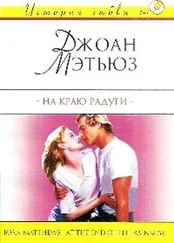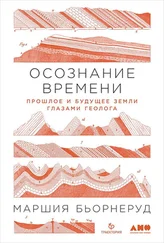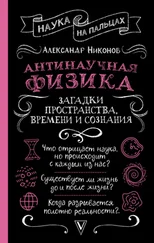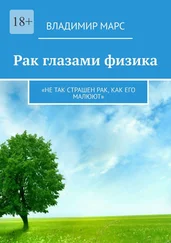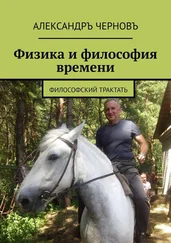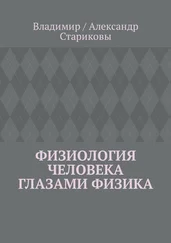С другой стороны, высота звука, определяющая, как высоко или низко он находится на музыкальной шкале, зависит от частоты. Чем больше частота звука, тем он выше; чем меньше частота, тем он ниже. Создавая музыку, мы постоянно изменяем частоту (и, следовательно, высоту).
Человеческое ухо способно воспринимать огромный диапазон частот, от около 20 герц (самая низкая нота на фортепиано – 27,5 герц) до примерно 20 тысяч герц. У меня, кстати, есть забавная демонстрация для студентов, в которой я использую специальный аппарат для измерения остроты слуха – аудиометр, умеющий транслировать различные частоты с различной интенсивностью. Я прошу студентов держать руку поднятой до тех пор, пока они слышат звук, и постепенно увеличиваю частоту. Старея, большинство людей теряют способность слышать высокие частоты. Например, мой лимит восприятия высокой частоты находится где-то на уровне 4 тысяч герц, на четыре октавы выше среднего до, в самом конце фортепианной клавиатуры. Но молодые студенты могут слышать гораздо более высокие ноты еще довольно долго после того, как я перестаю что-либо слышать. Я поворачиваю ручку аудиометра выше и выше, до 10 тысяч и 15 тысяч герц, и руки в аудитории постепенно начинают опускаться. На высоте 20 тысяч герц поднято уже не более половины рук. Тогда я несколько замедляю процесс: 21 тысяча, 22 тысячи, 23 тысячи. К тому времени, как я добираюсь до 24 тысяч герц, несколько рук, как правило, еще подняты. В этот момент я обычно прибегаю к небольшой шутке: выключаю аппарат, а сам делаю вид, будто еще повышаю частоту, до 27 тысяч герц. И знаете, всегда находится пара отчаянных душ, которые утверждают, что слышат эти сверхвысокие ноты – до тех пор, пока я не раскрываю свой обман. Получается довольно весело.
Теперь подумайте о том, как работает камертон. Если ударить по нему сильнее, число колебаний его зубцов в секунду не меняется, следовательно, частота производимых им звуковых волн остается неизменной. Именно поэтому он всегда играет ту же ноту. А вот амплитуда колебаний его зубцов при более сильном ударе возрастает. Это можно увидеть, если записать на пленку, как вы ударяете по камертону, а потом воспроизвести запись в замедленном движении. Вы увидите, как зубцы камертона колеблются, причем тем сильнее, чем сильнее вы по ним ударили. Поскольку амплитуда увеличивается, нота становится громче, но так как зубцы продолжают колебаться с той же частотой, она не меняется. Разве это не странно? Однако, если немного подумать, понимаешь, что тут все точно так же, как в маятнике ( глава 3), период колебаний которого (то есть время одного полного колебания) не зависит от амплитуды.
Звуковые волны в космосе?
А сохраняются ли упомянутые выше взаимоотношения между характеристиками звука за пределами Земли? Вам когда-нибудь приходилось слышать, что в космосе нет звуков? То есть как бы энергично вы не стучали по клавишам пианино на поверхности Луны, оно не выдавало бы никаких звуков. Правда ли это? Да, на Луне нет атмосферы, там вместо нее вакуум. Так что вы вполне можете сделать вывод, что, к сожалению, даже самые зрелищные взрывы звезд или мощные столкновения галактик происходят в полной тишине. Можно также предположить, что даже Большой взрыв, первичный взрыв, приведший почти 14 миллиардов лет назад к созданию нашей Вселенной, случился в полной тишине. Но погодите минутку. Космос, как и львиная доля жизни как таковой, значительно запутаннее и сложнее, чем мы думали всего лишь несколько десятилетий назад.
Несмотря то что любой из нас, попытавшись дышать в космосе, быстро погибнет от недостатка кислорода, в действительности космическое пространство, даже глубокий космос, не является идеальным вакуумом. Термины вроде этого всегда относительны. Например, межзвездное и межгалактическое пространство в миллионы раз ближе к вакууму, чем самый идеальный вакуум, который мы можем создать на Земле. И тем не менее факт остается фактом: материя, парящая в космическом пространстве, имеет важные и идентифицируемые характеристики.
Б о льшая ее часть называется плазмой: это ионизированные газы – газы, частично либо полностью состоящие из заряженных частиц, таких как ядра водорода (протоны) и электроны, различной плотности. Плазма присутствует в нашей Солнечной системе, и мы обычно называем ее солнечным ветром (явление, в изучении которого огромную роль сыграл Бруно Росси). Плазма также встречается в звездах, и между звездами в галактиках (где мы называем ее межзвездной средой), и даже между галактиками (в этом случае ее именуют межгалактической средой). Большинство астрофизиков считают, что более 99,9 процента всей наблюдаемой материи во Вселенной – это плазма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу