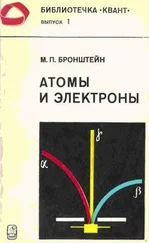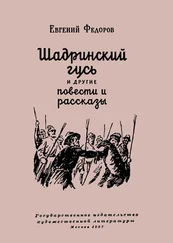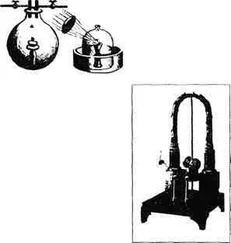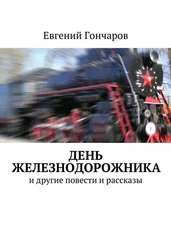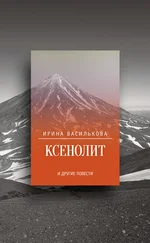Когда мы уходили, Самуил Яковлевич вышел вместе с нами на лестницу (в шлепанцах и в подтяжках) и, прощаясь, сказал:
– Так ваша книга и будет называться: “Солнечное вещество”… По имени главного героя. Ну, как “Евгений Онегин”, или “Муму”, или “Обломов”… Ваш герой – гелий, сквозь все перипетии поисков гелия станет ясен и спектральный анализ. Особенно важно рассказать, как люди сбивались с пути, шли по ложному следу. Это научит читателя самостоятельно думать. А сверхзадача такая: одно открытие служит другому, даже если один ученый и не подозревает об открытии другого.
С этого дня Митина работа пошла иначе. Самуил Яковлевич словно живой водой спрыснул разрозненные куски: теперь они соединились естественно, органически. Судьба героя повелевала повествованием. Книга не шла – летела.
Работали Митя и я вместе. Он автор, я редактор. Моя редакторская роль в этом случае оказалась весьма своеобразной. Я была именно тем идеальным читателем, над которым ставился опыт: тем круглым, полным невеждой, которому адресована книга. Чуть только повествование теряло конкретность или Митя опускал в цепи событий или рассуждений звено, казавшееся ему подразумеваемым, – я неизменно переставала понимать. Чуть только рассказ утрачивал образность, мне делалось скучно. Чуть только логический вывод из рассуждения не приводил, вместе с заново установленным фактом, к эмоции, не вызывал ни тревоги, ни огорчения, ни новой надежды – вывод сам по себе, а чувство само по себе, – я говорила Мите, что он сбился с дороги. Ведь сведения, голые сведения читатель может и в энциклопедии получить. Нашему же читателю надо испытать – вместе с исследователями – горечь неудачи, радость победы.
Митя ежедневно читал мне новые и новые главы. Я перебивала его, чуть только теряла сюжетную нить. Дивясь моему непониманию, Митя сердился и начинал объяснять мне, что происходит на странице – в лаборатории Рамзая или Резерфорда, – объяснять “по складам”, как трехлетней. Я снова не понимала, он в сердцах объяснял снова.
– Ты притворяешься… Тут нечего не понимать… Ну вот, например, представь себе…
“Представлять себе” (воображать) я умела. Митя подыскивал примеры. Во мне брезжило понимание, будто какие-то черты реального предмета просвечивали сквозь туман отвлеченности. Я хваталась за этот хвостик, краешек. Я начинала предлагать свои слова для понятого мною, и иногда оказывалось – они для изображения годны.
Проверяя переходы от мысли к мысли, звучания слов и фраз, Митя уже не мог не писать вслух. ‹…›
‹…›
Из коридора, из-за двери его комнаты, услыхала я, что он читает вслух, настойчиво повторяя одни и те же фразы. Прилаживает их. Не мне читает, а себе самому. Я отошла от двери. Не одна только рука, следуя мысли, вела его теперь по странице – вело и ухо. Проверка естественности, склада и лада.
По-иному расположил он теперь и весь материал. Из бесформенной лекции превращалась теперь книга в драматически развивающуюся прозу.
Вот Жансен и Локьер, с помощью спектроскопа, исследуют спектр солнечных выступов. Они обнаруживают линии водорода: красную, голубую и синюю. Затем видят желтую линию – близко-близко от желтой линии натрия. Близко, но линии все-таки не совпадают. Значит, это не натрий. Они назвали новонайденную линию Д 3и пришли к убеждению, что принадлежит она какому-то особому небесному веществу. Очевидно, на Земле его нет, оно водится только на Солнце, за полтораста миллионов километров от нас. На Земле его нету, а на Солнце есть, вот они и назвали его по имени Солнца – гелий.
Таково первое действие драмы, разыгравшееся после глав о горелке Бунзена, об изобретении спектроскопа, после главы под названием “Звезды в лаборатории”. После того, как читатель уже понимает, что такое спектральный анализ.
Второе событие большой драматической силы: гелий обнаружен на Земле. Обнаружили его в клевеите – существует такой минерал, – назвали криптоном. Но вот начинается новая цепочка опытов, и наконец один ученый – Крукс – посылает телеграмму другому – Рамзаю:
“Криптон – это гелий. Приезжайте – увидите”.
Рамзай приехал, взял в руки трубочку, где заперто было солнечное вещество, и увидел. Вряд ли, однако, испытал он такое же счастье, как Митя и я. Мы поняли, что глава удалась, что стоит она на должном месте, что драматургия не подвела, что читатель заодно с нами разделит радость и Рамзая, и Крукса.
‹…›
К Маршаку мы более с каждой главой не бегали. Мы решили положить ему на стол готовую книгу. Митя говорил, что видит ее насквозь, “понимаешь, всю на просвет, как в туннеле”. Через два дня на третий Самуил Яковлевич звонил нам, подзывал то его, то меня, подталкивал, сердился, устраивал сцены ревности, расспрашивал, требуя, чтобы Митя прочитал ему по телефону хоть отрывок. Но Митя стоял твердо: положит на стол оконченную рукопись. И тогда выслушает его приговор. И готов выслушать все замечания и исправить все, что найдет нужным исправить. (Ни о каком последнем или предпоследнем разе Митя уже не поминал.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Матвей Бронштейн Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник] обложка книги](/books/431099/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves-cover.webp)