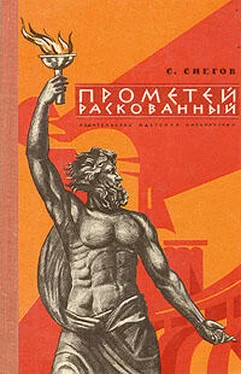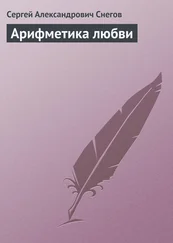— Да, я поработал бы в теории цепных ядерных реакций, Георгий Николаевич! — повторил Зельдович, прощаясь.
Возвратившись в Йошкар-Олу, Флеров написал Курчатову. Он знал, что это скорей акт отчаяния, чем практическое действие. Ученик уговаривал учителя возобновить прерванные работы. Он упрашивал «блудного сына» вернуться в отчий дом. Он не писал, лишь повторял это выражение про себя, в нем звучало не оскорбление, а уверенность, что не может учитель не вернуться в область, какую сам создавал, в какой стал самой крупной в стране фигурой. Зато в письме в осажденный Ленинград к Панасюку он не постеснялся: писал Игорю Васильевичу, звал его в Физико-технический институт. Он должен вернуться туда… Может быть, мое письмо поможет этому возвращению «блудного сына». Оба послания были брошены в почтовый ящик. Кончался декабрь — первое полугодие войны.
В том же декабре школа летных техников была закончена, в петлицах Флерова появились два «кубаря». Окончание школы ознаменовалось отправкой на юг: сперва на аэродром под Новым Осколом, потом под Касторной, в начале февраля — у Воронежа. Ответа от Курчатова не было. Учитель не отозвался на страстный призыв ученика. Технику по спецоборудованию самолетов работы хватало, можно было не предаваться мечтам об «урановом динамите»: видимо, идея бредовая, ее отстаивают только люди, «отделенные от действительности толстым слоем ваты», — так он сам с горечью признался в одном из писем.
В Воронеже летный техник однажды — на передовой наступило временное затишье — получил увольнительную для посещения библиотеки университета: командование знало, что странный лейтенант выступает перед академиками, — он, похоже, разрабатывал какие-то секретные военно-научные вопросы. В библиотеке Флеров накинулся на иностранные журналы. Немецкие были только довоенные, но английские и американские — свежие. Наконец-то он узнает, как продвинулись в изучении урана за последние семь-восемь месяцев англо-американцы!
Библиотека не отапливалась, Флеров ежился под легкой шинелью и, дуя на коченеющие пальцы, листал журнал за журналом. Ни в одном не было статей об уране. Урана больше не существовало в физике, в ней не было проблемы цепных ядерных реакций. Это могло означать одно: все относящееся к урану засекречено. Засекречивание работ рассекречивало их значение. Молчание было красноречивей слов. Уран стал насущной военной проблемой. Все иные толкования отпадали.
«Спокойно! — мысленно прикрикнул на себя летный техник. — Без проверки это еще не доказательство!»
Он выписал фамилии крупных физиков, занимавшихся до войны ядерными исследованиями в странах антигитлеровского лагеря. Фамилии выстраивались в колонки: Ферми, Силард, Цинн, Теллер, Андерсен, Уилер, Вайскопф, Бор, Жолио, Халбан, Коварски, Перрен, Чадвик, Фриш, Пайерлс…
Если исследования по урану засекречены, то и эти фамилии стали секретными, работ, подписанных ими, он больше не найдет.
Он снова перелистывал журналы. Все сходилось! Не было в журналах Америки и Англии физиков-ядерщиков. Они прекратили публикации, на них не ссылаются — крупнейшие ученые как бы выпали из истории физики. Вывод был несомненен, очевиден, неотвергаем. Зельдович с Харитоном доказывали, что контролируемую, плавную реакцию распада урана осуществлять несравненно проще, чем взрывную, с мгновенным выделением огромной энергии. Но только эта взрывная реакция — чудовищная ядерная бомба — может заинтересовать военных. Физики
Америки и Англии нацелены на решение задачи труднейшей, они работают сегодня на войну. Но что значит — труднейшая задача? Та трудней, которой меньше отдают ума, воли, интеллектуальных способностей, материальных средств. Флеров зябко передернул плечами — яркое воображение рисовало мрачную картину гигантского сосредоточения умов для создания исполинских средств разрушения…
В часть он возвратился взбудораженный. Дежурный недоверчиво покосился — вот уж загадочная личность лейтенантик! Отпросился в библиотеку, возвратился вроде бы навеселе. И где достал спиртное?
Ночь шла без сна. Решение явилось сразу. Если бы можно было в казарме зажечь ночью огонь, он немедля схватился бы за бумагу — писать по самому высокому адресу: Председателю Государственного Комитета Обороны. На другой день он лучшим своим почерком вывел: «Дорогой товарищ Сталин!» Первая фраза писалась медленно, остальные полились с лихорадочной быстротой — и отнюдь не каллиграфически написанные…
Читать дальше