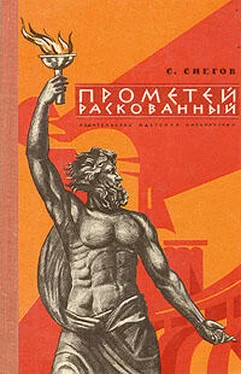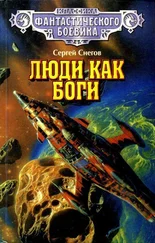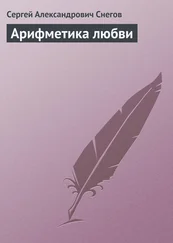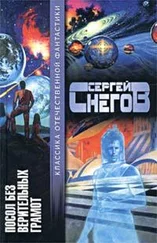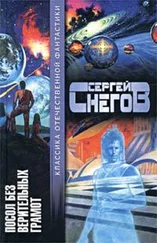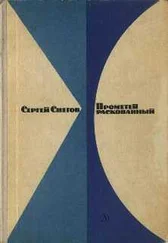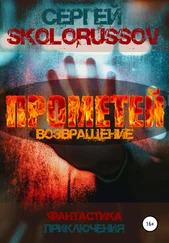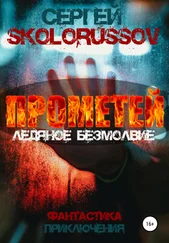— А знаете новость? Харитон с Зельдовичем рассчитали, что возможна урановая бомба, взрыв которой снесет всю Московскую область!
Один из участников этой встречи, Игорь Головин, тогда аспирант Тамма, вспоминал впоследствии, что сообщение профессора вызвало не ужас, а ликование. То была дань восхищения перед могуществом науки, преклонение перед ее успехами. Ни у кого и мысли не могло появиться, что кто-то вознамерится реально изготовить такое адское оружие.
4. Курс — на урановый котел
Это было половодье науки, внезапно хлынувшие вешние воды творчества! Иоффе раздобыл справку о том, сколько в Советском Союзе физиков: всего около трехсот, и, чтобы попасть в эту графу, надо было либо напечатать одну работу, либо иметь законченный отчет по научно-исследовательской теме. Иоффе радовался: в их институте трудилась добрая четверть всех физиков страны!
А Курчатова поражало другое. В ноябре 1939 года в Харькове созвали очередное всесоюзное совещание по проблемам атомного ядра. И участвовало в конференции более ста человек, а докладов заслушали тридцать пять, и некоторые были коллективные — не меньше пятидесяти физиков работало в ядерной области, не меньше ста активно интересовалось ею. Уже не крохотная группа энтузиастов, а солидный отряд творческих умов!
Курчатов чувствовал свою особую ответственность за успех ядерных работ. На него равнялись, к нему обращались за советами. Удачи в изучении ядра ныне определялись прежде всего удачами его лаборатории. Он ставил перед собой новую цель: разработку установки, где в смеси урана с замедлителем будет непрерывно выделяться тепловая энергия. По аналогии с паровыми котлами такой агрегат в печати уже называли урановым котлом (в 1955 году Первая женевская международная конференция по мирному использованию атомной энергии переименовала атомные котлы в атомные реакторы). Но для создания уранового котла требовалось точное знание всех констант развала ядер, замедления и поглощения нейтронов — всего того, чем уже давно занимались в его лаборатории и чем занимались медленно, неэффективно — так он в досаде твердил себе, хоть другие говорили с уважением о размахе и глубине исследований. Он-то лучше знал! Он видел огромность задачи и скудость средств для ее решения.
Курчатов, как и обещал уставшему от грызни с поставщиками Алиханову, взял в свои руки строительство ускорителя. И все переменилось. «Нас трясет циклонная лихорадка!» — с восторгом говорил Неменов. Он был счастлив — эта лихорадка была болезнью благородной.
В солнечный день 22 сентября 1939 года Физтех отпраздновал осеннее равноденствие по-своему. На свободной площадке в пятидесяти метрах от ближайшего здания торжественно заложили фундамент будущего циклотрона. Сотрудники и гости сошлись на радостный митинг. С трибуны говорили, что в Европе — война, самолеты за несколько часов превращают в прах то, что потребовало для своего создания десятилетия. А у нас продолжается созидательная работа, свидетельство ее — вот этот циклотрон, сооружаемый для мирного освоения атома. Иоффе положил первый кирпич, руки подрагивали от волнения, кирпич ёрзал по цементному тесту. Второй кирпич понес Курчатов, он пристукнул его мастерком, как заправский каменщик. За Курчатовым шли сотрудники и гости, каждый нес свой кирпич. Инженер Жигулев, специалист по стальным конструкциям, с беспокойством обратился к бригадиру каменщиков: не слишком ли много самодеятельной кладки? Бригадир широко улыбнулся:
— Пускай радуются!
«Циклотронная лихорадка» на самом Курчатове сказалась так, что в лаборатории его почти перестали видеть. Он проводил дни на заводах, в конструкторских бюро, ездил в Москву за фондами на материалы. Опытные заводские работники вздыхали: дадут сотню килограммов меди — успех. Он привез накладные на 10 тонн. Дмитрий Ефремов, главный конструктор «Электросилы», сам увлекся созданием уникального агрегата, теперь они оба часами просиживали над чертежами электромагнита.
В жизни Физтеха произошли важные организационные перемены: он перешел из Наркомтяжпрома в систему Академии наук. Преобразование Физтеха из промышленного в академический институт породило новые надежды.
Теперь можно было ожидать на так называемую «чистую науку» ассигнований покрупней. Курчатов посовещался с помощниками. Мнение было у всех одно: подошла пора начинать сооружение опытного уранового котла.
И 29 августа 1940 года на имя непременного секретаря Президиума Академии наук СССР П. А. Светлова ушло письмо, подписанное четырьмя физиками. В этом письме, озаглавленном «Об использовании энергии деления урана в цепной реакции», авторы писали:
Читать дальше