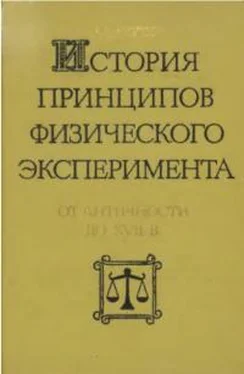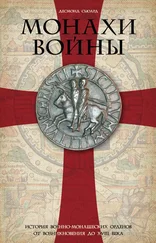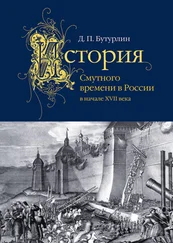В 1933 г. в докладе «О методе теоретической физики» Эйнштейн предпринял первую (если не считать кратких высказываний в более ранних работах) попытку дать очерк развития физической науки от древности до XX в. Основная проблема, которая послужила для этого связующей нитью,, была проблема соотношения опыта и мышления. По, мнению Эйнштейна, достоинство эллинов состоит в том, что они дали образец логически стро^ гой интеллектуальной системы в геометрии Евклида. Но этого было мало для развития физической науки. Отсутствовал фундаментальный принцип опыта, а достижение этого принципа «не было достоянием философии до Кеплера и Галилея». «Положения, полученные при помощи чисто логических средств,— говорит Эйнштейн,— при сравнении с действительностью оказываются совершенно пустыми. Именно потому, что Галилей сознавал это, и особенно потому, что он внушил эту истину ученым, он является отцом современной физики и, фактически, современного естествознания вообще» 3 . В конечном счете, согласно Эйнштейну, логическое мышление должно исполнять свою автономную работу так, чтобы в выводах его результаты могли быть сопоставлены с опытом, который и является последним судьей и ценителем этих «свободных творений человеческого разума».
И действительно, когда мы изучаем историю галилеевского «Звездного вестника», когда видим, какое фундаментальное значение имели тщательные наблюдения Тихо Браге и эмпирическая добросовестность Кеплера в создании новой астрономии, мы понимаем всю справедливость такого представления.
Известны слова Галилея, что если бы Аристотель знал те факты, которые знаем мы, он изменил бы свою концепцию. Известно письмо Галилея Кеплеру, написанное в августе 1610 г. («Звездный вестник» был опубликован в марте), где он жалуется: «Посмеемся, мой Кеплер, великой глупости людской. Что сказать о первых философах здешней гимназии, которые с каким-то упорством аспида, несмотря на тысячекратное приглашение, не хотели даже взглянуть ни на планеты, ни на Луну, ни на телескоп... Почему не могу посмеяться вместе с тобой? Как громко расхохотался бы ты, если бы слышал, что толковал против меня в присутствии великого герцога Пизанского первый ученый здешней гимназии, как силился он логическими аргументами как бы магическими прельщениями отозвать и удалить с неба новые планеты» 4 . Достаточно беглого просмотра основных произведений Галилея — «Диалогов» и «Бесед», чтобы найти буквально на каждой странице описание самых разнообразных опытов, как весьма простых, явных и очевидных, так и других — хитроумных и оригинальных. Известны ходячие легенды о бросании камней с пизанской башни, об экспериментальной проверке закона свободного падения.
Однако таков результат только «умозрительного» подхода к самому Галилею, только беглого просмотра его сочинений. Буквально с первых же страниц «Диалогов» нас поражает, что не кто иной, как добросовестный представитель ортодоксального аристотелизма Симпличио, выступает защитником чувственной очевидности, причем выдвигает именно эмпирические аргументы против коперниканца Сальвиати. Мы ведь часто забываем, что физика схоластического аристотелизма как раз и имела к tomv времени статус непосредственной эмпирической очевидности, так что коперниканство воспринималось как спекулятивно-математический парадокс. Поэтому наше первоначальное мнение должно быть изменено и улучшено.
В 1953 г. в предисловии к новому изданию «Диалогов» Эйнштейн самокритично пишет: «Часто утверждают, что Галилей стал отцом современной науки, заменив умозрительный дедуктивный метод экспериментальным, эмпирическим методом. Думаю, однако, что подобное мнение не выдерживает более внимательной проверки. Не существует эмпирического метода без чисто умозрительных понятий и систем и не существует систем чистого мышления, при более близком изучении которых не обнаруживался бы эмпирический материал, на котором они строятся... Экспериментальные методы, которыми располагал Галилей, были столь несовершенны, что только с помощью чистого мышления можно было свести их в единое целое...» 5 . Таким образом, кажется, аристотелевская и галилеевская физика по меньшей мере в методологическом отношении уравниваются в правах. Таково мнение гениального физика, хотя и не специалиста в истории этой науки.
Один из крупнейших французских историков науки, А. Койре, в своих « Etudes galileens » пишет: «Часто говорят о роли опыта, о рождении «экспериментального духа». И действительно, экспериментальный характер классической науки составляет одну из специфических ее черт. Но на самом деле речь идет о двусмыслице: опыт в смысле грубого опыта, наблюдения здравого смысла, не играл никакой роли в рождении классической науки, если только пе был ей препятствием; и физика парижских номиналистов — и даже физика Аристотеля — была часто гораздо ближе к опыту, чем физика Галилея» 6 . Другой историк, специалист по Галилею, автор одной из наиболее солидных биографий великого итальянца — Вольвилль, разбирая пизанские заметки Галилея, касающиеся проверки закона падения, замечает, что результатов, противоречащих выводам Галилея, было гораздо больше, чем подтверждающих их. «Сильное пристрастие к новой теории (!),— разъясняет Вольвилль,— сделало его изобретательным в установлении оснований, объясняющих, почему не обнаруживаются на деле рассчитанные следствия. Оно склонило его к мнению, что, будучи уверенным в точке зрения, которая вполне удовлетворяет рассудок, можно поначалу оставлять без внимания явное противоречие с опытом» 7 . В дальнейшем мы подробнее рассмотрим эту ситуацию и найдем у самого Галилея еще немало свидетельств такого положения дел.
Читать дальше