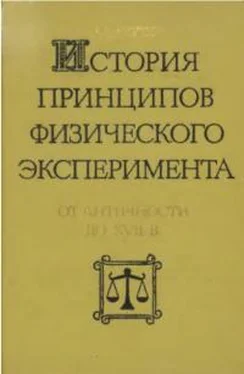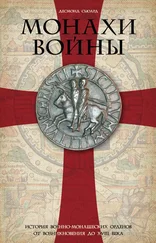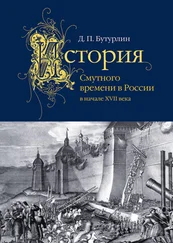При этом мы не вносим никакой существенной модернизации. Ведь отождествление интеллектуального совершенствования в богопознании с процессом жизненного приближения к богу является не только очевидностью для платонизирующего ума Августина, но и непосредственным опытом всей его жизни. Авторитет Писания и Церкви представляется Августину только вожаком и помощником, но никак не заменителем разума 18 . И семь ступеней развития разума суть семь ступеней восхождения души к богу.
Именно поэтому теория познания и наука неуловимо переплетаются в сочинениях Августина с теологией и учением о спасении души. Э. Жильсон замечает, что трудно точно различить «говорит ли св. Августин как теолог или как философ, доказывает ли он существование бога или развивает теорию познания, является ли вечная истина, о которой он говорит, истиной познания или моральности, разъясняет ли он доктрину ощущения или последствий первородного греха» 19 .
Предметы мира и их познание не просто отвергаются в качестве недостойных, они рассматриваются внутри отношения человек — бог. Бог может общаться с человеком не только в его душе, он обращен к нему и в своих творениях, а это и образует условие, при котором могло сформироваться новое понятие о вещи. Бог это не просто потустороннее и внемирное существо, он составляет также внутреннее определение любой твари. Вот почему христианская мысль не только отвращалась от мира, тела, природы, но и преобразовывала само отношение к ним. Мир и тело понимались как передатчики духовной истины. Природа во всей своей связности есть также путь души к богу 20 .
Важнейшие определения предмета, вещи, как они понимались христианским мышлением, раскрываются через понятие творения, твари. Бог, который является началом бытия и истины, в котором заключены «парадигмы» всех вещей, в его отношении к миру выступает как творец, сотворивший мир из «ничто». При этом возникает целый ряд парадоксальных проблем, которые становятся закваской многообразных мыслительных метаморфоз.
«До творения твоего,— говорит Августин,— ничего не было кроме тебя, и... все существующее зависит от твоего бытия» 21 . «Я мысленно обратил взор свой и на другие предметы, которые ниже тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они существуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что получили свое бытие от тебя; не существуют потому, что они не то, что ты» 22 .
Этот парадокс формулирует понятие «степени бытия», вводящее градацию в существующий мир и совершенно особый принцип формы.
Понятие степени бытия, которое определяет предмет в его существенности через то, что принципиально не является этим предметом вообще, представляется нам центром вопроса. Эта проблема составляет центр самых разнородных и даже противоборствующих путей христианского мышления. Будет ли это ремесленная практика, где речь идет о способе изготовления и отделки вещей, или же религиозная задача отыскания пути совершенствования и спасения, будет ли это философская проблема определения трансценденталий или проблема истолкования священного текста, решаются ли вопросы политической и церковной иерархии или же разрабатывается алхимический рецепт,— везде мы сталкиваемся с одним и тем же формальным принципом, с понятием степени совершенства, действительности (и действенности), благородства, истинности, бытия.
В этом, может быть, яснее, чем где бы то ни было, ощутима связь с навыками античной мысли, но также и отчетливее выступает работа обособления, противопоставления, отталкивания. Позже, в XIII в., вновь возрожденный Аристотель изучается и преобразуется в канонического схоласта благодаря последовательному истолкованию его категорий и понятий в том же самом духе степеней бытия, ступеней иерархии, лестницы совершенств.
В «Своде теологии» Фомы Аквинского среди знаменитых пяти доказательств бытия бога находится доказательство от «различных степеней, которые обнаруживаются в вещах». Со свойственной ему полнотой и определенностью Фома концентрирует в этом четвертом доказательстве важнейшие моменты этого круга идей.
Приведем это доказательство почти целиком. «Мы находим среди вещей более или менее совершенные, или истинные, или благородные; так обстоит дело с прочими отношениями того же рода. Но о большей или меньшей степени говорят в том случае, когда имеется различная приближенность к некоторому пределу; так более теплым является, то, что более приближается к пределу теплоты. Итак, есть нечто, в предельной степени обладающее истиной, и совершенством, и благородством, а следовательно, и бытием... Но то, что в предельной степени обладает некоторым качеством, есть причина всех проявлений этого качества; так огонь как предел теплоты, есть причина всего теплого... Отсюда следует, что есть некоторая сущность, являющаяся для всех сущностей причиной блага и всяческого совершенства; и ее мы именуем богом» 23 . Заметим прежде всего следующее: бытие или совершенство по отношению к каждому роду вещей есть их полная осуществленность или актуальность 24 ,— уже из этого следует, что бог есть причина всякого движения (первое доказательство); как существующее совершенство и полнота всего бог есть творец или производящая первопричина (второе доказательство); как предел всякого движения, изменения и становления бог есть неизменное и вечное, т. е. всецело необходимое существо (третье доказательство); наконец, совершенство есть цель или телеологическое определение всего сущего и бог как всесовершенство является всеобщей целью (пятое доказательство). Короче говоря, совершенствование и совершенство, движение существующего к своему бытию составляют как бы внутренний механизм рассуждения во всех пяти доказательствах, а не только специальный предмет четвертого доказательства.
Читать дальше