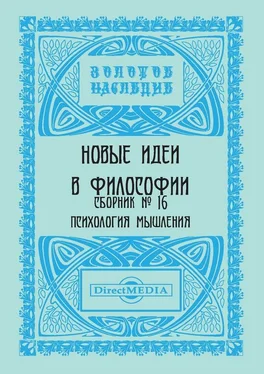Переживания определяются, следовательно, через сознание (душевный индивидуум, «Я»), а сознание через переживания; но сопоставление всех этих терминов, несмотря на указанный круг в определении, наводит нас на весьма определенное знание о том, какие предметы имеет в виду Гуссерль. К тому же он сейчас же дает ряд примеров переживаний. Восприятия, представления фантазии, образные представления, акты мышления в понятиях, предположения и сомнения, надежды и опасения, желания и хотения – все это переживания или содержания сознания (стр. 326). Притом ощущения так же подходят под это определение переживания, как характер восприятия (т. е. то, что делает восприятием совокупность ощущений) и явление воспринимаемого предмета в восприятии. Последнее надо столь же строго отличать от самого предмета, который обыкновенно к переживаниям уже не относится, как подвергаемые в нем истолкованию ощущения от свойств воспринимаемого предмета. Например, при восприятии красного шара совершенно различны равномерный красный цвет самого шара и ряд переходящих один в другой оттенков, возникающих в ощущениях именно при правильном восприятии этого равномерного цвета как такового (стр. 326– 328). Это пояснение Гуссерля сразу показывает нам объем и богатство, даваемые им (правильно или неправильно), понятию душевного явления; они весьма значительны по сравнению, например, с соответствующим понятием у Брентано.
Хотя это собственно ясно уже из предыдущего, Гуссерль все-таки еще оттеняет, что его понимание сознания исключает возможность того, чтобы «Я» (т. е. сознание) было чем-то своеобразным, парящим над своими переживаниями. Оно просто тожественно единству сплетения этих переживаний, и «переживать» значит включать что-либо в это единство, «переживаться» – быть включенным в него (стр. 330, 331, 342).
Сопоставим эти общие учения о душевных явлениях Гуссерля с таковыми же Брентано и Уфуэса. С Брентано он прямо полемизирует по поводу его определения душевных явлений. В частности, главный признак душевности по Брентано, отношение к предмету, интенциональное его существование внутри явления Гуссерль не считает признаком всякого душевного явления (переживания) (стр. 344, 345). Как пример переживаний, не подходящих под это определение, Гуссерль приводит ощущения и сплетения ощущений, а также фантазмы, т.е. воспроизведения ошущений и их сплетений (стр. 349, 712). Брентано не относит содержания ощущений к душевным явлениям, к которым он причисляет акты ощущения как своеобразные отношения к ощущаемому нами предмету. Гуссерль, напротив, с одной стороны, отрицает существование таких актов ощущения, а содержания ощущений, с другой стороны, считает душевными явлениями (стр. 714, с прим. 1, 715, 871, прим. 1); их-то он и приводит как примеры не подходящих под определение Брентано переживаний. По этому вопросу близок к Гуссерлю Уфуэс, который утверждает, что некоторые ощущения не имеют отношения к предмету и что получают его ощущения только путем преобразования в восприятия и представления.
Сознательность, служащую признаком душевности у Уфуэса, Гуссерль тоже не приводит в качестве такового. Зато согласно и с Брентано и с Уфуэсом, Гуссерль признает единство сознания как сплетения душевных явлений. Собственно на утверждении этого единства да на примерах только и зиждется, по существу дела, у него определение душевных явлений (переживаний). Сознание как единство он то готов счесть существом (стр. 328), то склонен оставить вопрос об этом открытым, так как не решает окончательно, можно ли путем установления причинных законосообразных связей между частями сознания сделать его единство настолько устойчивым, как единство тел (стр. 332). В понимании единства сознания Гуссерль, следовательно, занимает посредствующее положение между Брентано, признающим его существом, и Уфуэсом, отвергающим такую возможность.
По вопросу о том, существуют ли бессознательные душевные явления, Гуссерль не высказывается. Однако, раз он называет душевные явления переживаниями, то нельзя ему приписывать признание таковых. Только он ничего не сделал, чтобы выявить эту черту душевности, как это сделали: Уфуэс – через свой признак сознательности, Брентано – через то, что он признал всякое душевное явление предметом душевного явления. Против учения последнего, что всякое душевное явление в частности есть предмет восприятия (т. е. по воззрениям Брентано, познания особого рода), Гуссерль прямо восстает, утверждая противное (стр. 339, ср. 701, 702).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу