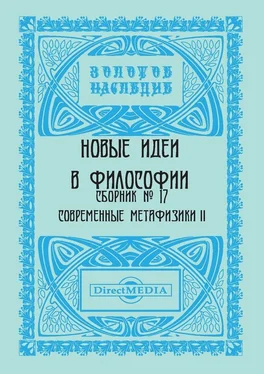Что касается до отдельных учений, составляющих систему Ройса, то среди них наиболее замечательны, бесспорно, учения о взаимной связи единого и множественного и о природе зла. Современная философская литература не знает в обоих этих отношениях другого, в проведении своей мысли столь настойчивого, обстоятельного и последовательного трактования. И думается, что больше этого она и вообще уже не в состоянии дать, оставаясь на своих главнейших позициях.
Однако, как бы ни были велики достоинства философии Ройса, у нее имеется также и целый ряд весьма существенных недостатков. И прежде всего, как целое, она представляет собою яркое выражение философского антропоморфизма, несмотря на неоднократное заявление Ройса о том, что «абсурдно делать наше познание мерилом того, что есть» 215, и что «мы не имеем права ограничивать конституцию универсального духа категориями человеческого опыта как такового» 216. Ибо в действительности такое ограничение происходит уже потому, что сущее ограничивается категорией духовности вообще, которая является характерной человеческой категорией. Ройсу кажется, что он раскрывает духовность мира логическим анализом познания и бытия. Но на самом деле это происходит просто потому, что он, сам того, очевидно, не сознавая, полагает в основание этого своего анализа с самого же начала психологическую схему, не проводя необходимого принципиального различия между идеей в ее психическом бытии и ее внутренним смыслом и толкуя этот последний в терминах познавательного и волевого переживания. Затем, истолковывая мир и бытие как внешний смысл, в терминах внутреннего смысла, он непроизвольно переносит психологическую схему и в свою онтологию, космологию и теодицею. – В этом же изначальном психологизме заключается также источник и Ройсова волюнтарного активистического миропонимания вместе с его прагматической оценкой познания 217.
Далее, самое ценное и замечательное из отдельных учений Ройса – его учение о взаимопроникновении единого и множественного, безусловно не выдерживает настоящей принципиальной критики. Действительно, если едино-единственное (весь мир, абсолютное сознание, абсолютная воля) должно самопредставительствовать себе, то, как себе самопредставительствующее, оно неизбежно должно быть хотя бы минимально «другим» по сравнению с самим собою, как представительствуемым; иначе это будет уже не самопредставительство, а самоповторение, т. е. отсутствие действительного самообнаружения. Равным образом, если каждый из моментов множественного должен быть представителем самопредставительствующего себе едино-единственного, то, как такой представитель, он неизбежно должен быть отличен хоть в чем-нибудь от представительствуемого им через посредство его (представляемого) собственного в его (представительствующего) лице самопредставительствования; иначе он будет не представителем, а самим представляемым. Но, ведь, в таком случае связь единого и множественного чрез самопредставительство первого во втором будет простым соположением его, как такового, с ним же, как не таковым, т. е., строго говоря, отсутствием какой-либо действительной связи, отсутствием какого бы то ни было примирения. И в конце концов Ройс, сам того не сознавая, признается в этом, ибо говорит: «индивидуальность всех вещей остается постулатом, составляя для нас центральную тайну бытия» 218. Но какая же философская прибыль от его учения, раз в самом существенном пункте оно отвечает ссылкой на тайну, т. е. на нечто, философскому разумению недоступное и чуждое?
Наконец, разработанная им теодицея и учение о зле, при первом знакомстве кажущиеся логически неотвратимыми и безукоризненными, при более пристальном рассмотрении все ж таки оказываются бессильными преодолеть соответствующие проблемы. Ведь совершенно же ясно, что само зло, как зло, т. е. факт зла, не может принадлежать к вечному и совершенному порядку божественной воли, сколько бы ни относить к этому порядку факта искупления зла; в противном случае божественная воля была бы несовершенна и не божественна, как творящая зло. Если же это зло внебожественно (хотя бы в самом утонченном и замаскированном смысле), то проблема воссоединения единого и множественного остается неразрешенной, а единое с множественным – обоюдно трансцендентными.
Статья эта написана профессором общей метафизики и теодицеи в Левенском университете Николаем Бальтазаром специально для XVII сборника «Новых идей в философии».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу