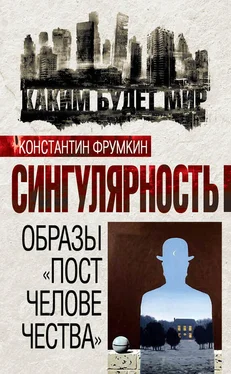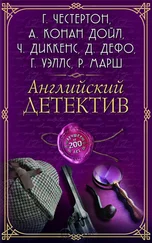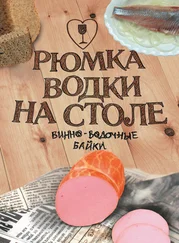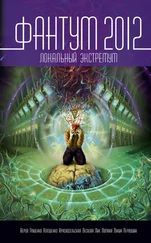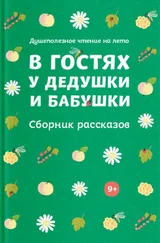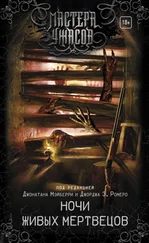Первый большой роман в расчете на книжное издание, которое открывало бы молодому литератору путь в Союз писателей, придавая профессиональный статус его деятельности, Станислав Лем написал по прямому заказу. Однажды на отдыхе Лем встретился с варшавским издателем и завел с ним разговор о том, какой должна быть польская фантастика, которая в то время была представлена одиночными текстами. Слово за слово, и Лем взялся сделать роман, который мог бы составить конкуренцию лучшим мировым образчикам того времени. И сделал.
Разумеется, «Астронавты» сразу привлекли внимание критики, от которой молодому автору досталось по полной программе. Станислав Лем в то время был мало искушен и не удержался от полемики с критиками, замечая в ответных опусах, что один критик «ругает роман за то, чего в нем нет, но что, по мнению критика, присутствует (метафизическая этика, образ нашей эпохи как времени “беспорядка”)», другой «ругает за то, чего в романе нет принципиально (не показал жителей Венеры)», хотя «в романе наверняка есть немало ошибок – во всяком случае достаточно для критики, так что для этой цели нет необходимости выходить за рамки текста». [87]И так далее.
С этого момента за творчеством Лема стал внимательно следить инженер Евстахий Бялоборский, автор нескольких научно-популярных книг. В своих посланиях, направляемых в редакции периодических изданий, инженер обвинял фантаста в том, что тот вводит читателей в заблуждение своими псевдонаучными рассказами, где описывает технику, которая в действительности не может быть создана, поскольку противоречит элементарным законам физики. Поначалу на критику явных ошибок (например, «такая ракета, как “Космократор”, не могла бы долететь до Венеры»), Лем отвечал в юмористическом ключе: « До сих пор большинство читателей “Астронавтов” считало, что автор этой книги разрешил все трудности, стоящие на пути осуществления космических полетов при помощи атомной энергии и тем самым стал в ряд самых выдающихся изобретателей мира» . Затем прибег к более хитрой уловке: «Никто не будет пытаться конструировать ракету, основываясь на информации, содержащейся в “Астронавтах”, и тем самым не обречет себя на неприятное разочарование» . А еще чуть погодя опубликовал свой творческий манифест: «От каждого литературного произведения, а значит, и от научно-фантастического, следует требовать обобщенной правды, представления типичных явлений, а не натуралистической копии жизни, использующей адресную книгу, персональную анкету и таблицу логарифмов» . [88]
Свой новый подход Станислав Лем немедленно продемонстрировал в цикле рассказов о приключениях космического пилота Ийона Тихого (Ijon Tichy), которые, несмотря на наукообразную терминологию, скорее следует отнести к современной сказке, нежели к научной фантастике. Ийон Тихий свободно летает среди звезд на своем маленьком корабле, посещает разнообразные планеты, контактирует с инопланетянами, участвует в экзотических экспериментах, но при этом его истории столь же далеки от реальности, как истории Гулливера, Мюнхгаузена, Врунгеля и прочих вымышленных путешественников, хорошо известных по классической литературе.
Что ж, Станислав Лем вполне имел право на такой поворот в своем творчестве, благо истории получались веселые, задорные, парадоксальные – что еще нужно? Но, видимо, отказаться от более серьезных размышлений о будущем он не мог, поэтому вскоре один за другим выходят полные драматизма «космические» романы «Эдем» («Eden», 1958), «Солярис» («Solaris», 1961), «Возвращение со звезд» («Powrót z gwiazd», 1961), «Непобедимый» («Niezwyciężony», 1964), которые ныне считаются классикой научной фантастики, причем не только в Польше.
Прямо скажем, научности в них предостаточно (если, конечно, признавать науками те вымышленные дисциплины, которыми оперирует Лем), а вот с технической достоверностью писатель опять поступил весьма вольно – в духе незабвенного «Космократора». Напомню прекрасное из «Непобедимого»:
«“Непобедимый”, крейсер второго класса, самый большой корабль, которым располагала База в системе Лиры, шел на фотонной тяге, срезая край созвездия. Восемьдесят три человека команды спали в туннельном хибернаторе центрального отсека. <���…> В рулевой рубке работали только автоматы. В поле их зрения, на перекрестье прицела, лежал кружок солнца, немногим более горячего, чем обычный красный карлик. Когда кружок занял половину площади экрана, реакция аннигиляции прекратилась. Некоторое время в звездолете царила мертвая тишина. Беззвучно работали климатизаторы и счетные машины. Погас вырывавшийся из кормы световой столб, который, пропадая во мраке, как бесконечно длинная шпага, подталкивал корабль, и сразу же прекратилась едва уловимая вибрация. “Непобедимый” шел с прежней околосветовой скоростью, притихший, глухой и, казалось, пустой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу