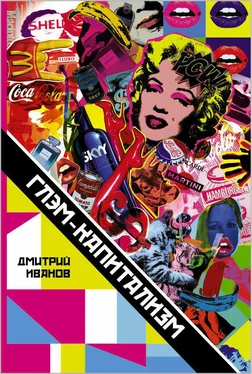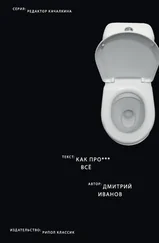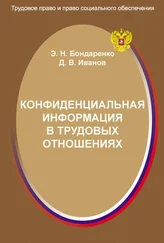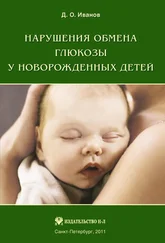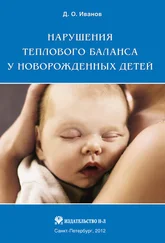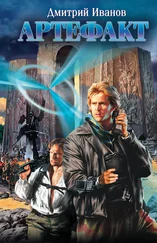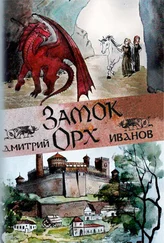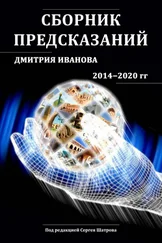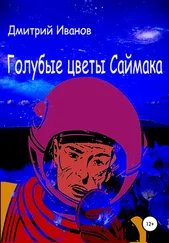Сверхдоходы глэм-капиталистов и глэм-профессионалов привлекли повышенное общественное внимание в ходе экономического кризиса 2008–2009 годов и даже стали, наряду с неподконтрольностью финансовых операций, рассматриваться как фактор, провоцирующий кризис. Последовавшие предложения по ограничению и обложению дополнительными налогами так называемых коротких транзакций на финансовых рынках, бонусов топ-менеджерам и биржевым трейдерам, приобретения предметов роскоши, а также вообще всех доходов, существенно превышающих средний уровень, можно считать по сути признанием политиками логики глэм-капитализма. Предлагаемые меры – это попытки выработки сверхновой социальной политики на основе налогообложения трендов. Так что тем самым, вопреки ожиданиям, экспансия глэм-капитализма не столько ограничивается, сколько признается и легитимируется.
Появление сверхнового среднего слоя подрывает одну из основ социальных наук – идею «среднего класса». И дело даже не в том, что сам термин нелогичен. Средний слой и «луковицеподобная» стратификация, как показывают тенденции, оказываются одноразовым эффектом, возникшим в середине XX века, когда многие политические движения и правительства стремились создать общество всеобщего благоденствия. Все научные и политические дискурсы – исследования, рассуждения, решения, – посвященные «среднему классу» как носителю социальных норм, гаранту социального порядка, эталону социальности, основывались на неосознанном отождествлении статистической нормальности и социальности.
Возникшая теперь мода(льность) гламура – его нормальность, центральность, притягательность для большого числа людей лишает былого значения и общественного звучания старую модальность социальности – нормальность традиционного слоя буржуа. Старый средний слой, образуемый лавочниками и ремесленниками, ставшими в прошлом веке держателями малого бизнеса и профессионалами (свободными и «беловоротничковыми»), в экономически продвинутых странах оказывается теперь ниже среднего уровня стратификационной пирамиды. А та часть предпринимателей и профессионалов, которые капитализируют гламур и развивают глэм-технологии, отрываются от традиционного среднего слоя и по уровню доходов, и по стилю жизни.
Отмеченный эффект бимодальной стратификации, получивший в среде социальных аналитиков название «размывание среднего класса», вот уже несколько лет вызывает их и политиков беспокойство за судьбу демократии, поскольку ее опорой, «социальной базой» традиционно считается тот средний слой, который теперь оказывается ниже среднего. Однако опасения эти несколько запоздали, поскольку
► ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ КАПИТАЛИЗМА В КОНЦЕ ХХ ВЕКА ВИРТУАЛИЗИРОВАЛИСЬ, А В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ПЕРЕХОДЯТ В РЕЖИМ ГЛАМУРА, ТАКЖЕ КАК И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ.
Глава 4
Виртуализация политики и глэм-демократия
С распространением в XIX – середине XX века избирательного права на большинство населения и превращением выборов в систему универсальных ролей «избиратель-кандидат» государство стало «реальностью» – общественным институтом, который можно/нужно захватить, удержать, использовать, изменить, но который не возникает и не существует по воле человека как индивида. Государственное управление превратилось из фамильного ремесла сюзерена или вдохновенного искусства узурпатора в бюрократический аппарат. Того типа государства, суть которого блестяще сформулировал Людовик XIV, больше нет [75].
► Государство деперсонифицировалось и стало обезличенной ролевой системой «гражданин-чиновник».
Борьба за власть и ее применение превратились из искусства клановых и кабинетных интриг в политическое предприятие. Политическое дело – это организация агитации и мобилизации масс через профессиональные центральные партийные комитеты и местные «партячейки» и заключение внутри– и межпартийных союзов – политических сделок. Политические партии перестали быть группировками, возникающими на основе родственных, дружеских связей или каких-либо иных личностно ориентированных отношений и также оформились в институт, в систему ролей «лидер-сторонник».
Политические институты сформировались как комплекс норм, определяющих способы постановки и решения проблем обладания властью. Только деятельность, следующая институциональным нормам, расценивается как политическая. Как и в случае экономики, политическое отличается от неполитического не в силу свойств слов и вещей, мыслей и поступков, а в силу оценки их институциональной принадлежности. В новой политике эта институциональная принадлежность становится виртуальной в силу того, что диктуемые нормами реальные действия замещаются образами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу