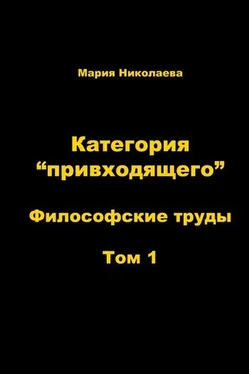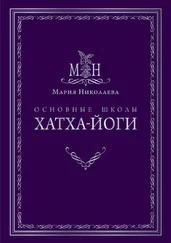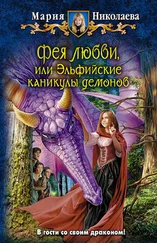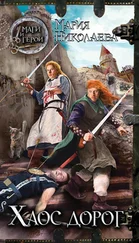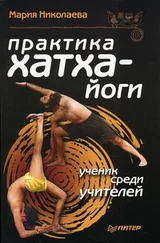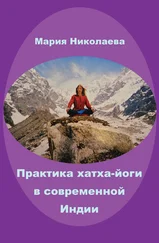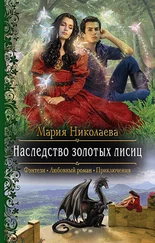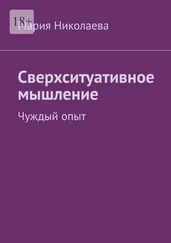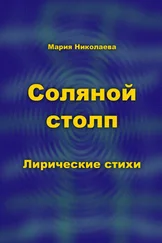1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 Допустим, что Швенглер был отчасти прав, хотя на самом деле буквальное совпадение значений произошло только в русском переводе. Для «привходящего» он употребил слово «beziehungsweise» (или, иначе, соответственно), в то время как «соотнесенное» у Аристотеля значит нечто сущее как отношение, то есть принадлежащее категории «προς (τι)» (при, против, соответственно). – «Привходящее» и «соотнесенное» – очень близкие категории. Это хорошо прослеживается на протяжении целой страницы, где текст целиком посвящен их аналогии, причем соотнесенное берется в своем первичном значении. «Ведь это скорее видоизменения и привходящие свойствачисел и величин, нежели их субстрат (многое и немногое – видоизменения числа, большое и малое – видоизменениея величины)… Большое и малое необходимо есть нечто соотнесенное,между тем из всех категорий соотнесенное меньше всего есть нечто самобытное или сущность, … есть некоторое видоизменение количества, но не его материя… Ибо не существует ничего соотнесенного, что было бы соотнесенным, не будучи чем-то другим… Для него одного нет ни возникновения, ни уничтожения, ни движения, … так как оно не есть сущность ни в возможности, ни в действительности. Поэтому нелепо считать, что не-сущность есть элемент сущности и первее ее». [92] Аристотель. /1088a18-b2/.
– Итак, соотнесенное прежде всего названо привходящим свойством определенного количества, а категория количества есть нечто последующее по отношению к сущности. Далее перечисляются в применении к соотнесенному все характеристики привходящего. А именно, оно не материально, а лишь свойственно; оно не было бы и самим собой, не будучи чем-то другим; оно не становится и не движется, поскольку к нему неприменимо сущностное деление на возможность и действительность; наконец, оно подпадает под действие закона противоречия, будучи в пределе не-сущностью.
В силу столь точного совпадения основного смысла «соотнесенного» с «привходящим», можно косвенно говорить и об отношении познающего к познаваемому. Соответственно, получает развитие предпосылка ошибки в сути вещи привходящим образом, взятая во введении как проблема образования категориями множества. Теперь она выражается и в том, «каким образом соотнесенное множественно, а не только едино; как возможно много неравного помимо неравного как такового». [93] Там же. /1089b12/.
Когда же соотнесенное прямо используется, чтобы описать отношение к сути вещи как к предмету ошибки привходящим образом, [94] См. гл. 4.2.
оно само берется привходящим образом. «Все то, что оказывается соотнесенным по числу или в смысле способности, есть соотнесенное потому, что сама его сущность включает в себя отношение. Измеримое же, познаваемое и мыслимое называются соотнесенными потому, что другое находится в отношении к ним. Ибо мыслимое означает, что есть мысль о нем, но мысль не есть мысль того, о чем мысль (иначе было бы два раза сказано одно и то же)». [95] Аристотель. /1021a27-33/.
Нужно отметить, что привходящность соотнесенного в этом смысле несколько опосредована. Буквально же «другое соотнесено с чем-то привходящим образом, например, человек – потому, что для него привходяще то, что он вдвое больше чего-то, а двойное есть нечто соотнесенное». [96] Там же. /1021b8/.
Тогда, во-первых, «человек» еще должен быть сведен к одной своей «душе», которая признается сутью его бытия; во-вторых, следует установить привходящим свойством для души-объекта быть познаваемой для души-субъекта; в-третьих, познающее вместе с познаваемым требуется признать за «двойное». И наконец, можно назвать отдельно взятое «мыслимое» соотнесенным потому, что некое другое относится к нему как «мыслящее» и в силу этого «проецируется» на него: возникает тавтология отношения с собой.
Повтор однозначного дает шанс объяснить удвоение сути вещи при ошибке. Попытка реализовать до конца открывшийся оборот дела опять-таки опирается на смешение математического и эйдического «единого», [97] См. гл. 1.2.
послужившее во введении ориентиром для направления внимания прямо на экстремум ошибочности. Метафорически – «множество есть как бы род для числа: ведь число есть множество, измеряемое единицей». Тогда «одно и число некоторым образом противолежатдруг другу – не как противоположности, а как нечто соотнесенное, а именно: поскольку одно есть мера, а другое – измеряемое. А потому не все, что «одно», есть число, например, если «одно» есть нечто неделимое». [98] Аристотель. /1057a3-7/.
Здесь не уточняется, имеется ли в виду неделимая суть вещи, или, скажем, точка как неделимая часть деления. Однако ситуация познания раздваивается внутри себя. Оказывается, что в некотором смысле именно предмет мыслит мыслимую о нем мысль, если форма предмета есть в точночти форма ума. Вместе с этим возникает и ответная соотнесенность мыслящего, шаткость его присущности сути бытия. «Правда, могло бы показаться, что знание есть мера, а то, что познается, – измеряемое, однако на деле оказывается, что хотя всякое знание касается того, что познается, но не всякое познаваемое соотнесено со знанием, так как в некотором смысле знание измеряетсятем, что познается». [99] Там же. /1057a9-12/.
Именование сути вещи тем самым еще не гарантирует, что имя получено от нее самой. Знакомство может быть вполне «бытовым», – на уровне «прозвища» по внешности. [100] Там же. /7a7-8, 23-30/.
Читать дальше