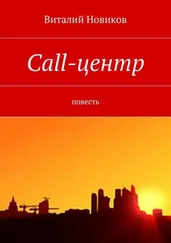Уровень изученности этого знаменитого произведения Лермонтова устанавливается довольно просто. Дело в том, что в стихотворении имеется слово, которое, как меченый атом или как кольцо на птице, способно выполнять роль исследовательского маркера. Введем в поисковый запрос слово «фарис», и компьютер выдает в качестве его источника текст именно «Трех пальм»: «И белой одежды красивые складки / По плечам фариса вились в беспорядке». То есть, ни до, ни после Лермонтова это слово в русской письменности вообще до сих пор не употреблялось. И вполне понятно, что это объясняется тем, что данное словоупотребление так и осталось «темным» и для читателей, и для самих историков литературы.
Разумеется, это – факт просто вопиющий. Действительно, невозможно себе даже вообразить, чтобы итальянцы что-то там не поняли в лексике Данте или Петрарки, испанцы – в произведениях Сервантеса, Кальдерона или Лопе де Вега, англичане – в текстах Шекспира, Донна или Мильтона, немцы – в сочинениях Гете или Шиллера. А у нас, как оказалось, пожалуйста. Лермонтов – несомненно, один из величайших поэтов России – остается, фактически, не совсем прочитанным.
Случайность? Едва ли. То, что с этим словом не все в порядке, догадались, безусловно, и составители энциклопедии. Работая над алфавитно-частотным словарем языка Лермонтова, они решили выйти из затруднения, написав слово с большой буквы. Получилось вроде бы имя собственное: Фарис (С. 760). И объяснять ничего не нужно. Кроме того, что в самом тексте стихотворения слово почему-то сохранило прописную букву. Конечно, с научной точки зрения это – не просто хитроумная уловка, а элементарная фальсификация, явное мошенничество. Вместо аутентичного текста нам косвенно предлагается примитивная подделка. Поэт такого уровня, как Лермонтов, не мог в данном случае величать совершенно незнакомую нам личность каким бы то ни было именем собственным.
Разумеется, соображения такта и уважение к предшественникам, по идее, должны были бы снизить градус нашего недоумения, а, тем более, возмущения. Людям свойственно ошибаться. Но в том-то и дело, что этот казус, как и многие другие просчеты с Лермонтовым, есть не столько следствие персональных ошибок конкретных исследователей, сколько проявление общей тенденции – массовой недооценки творчества нашего гения. Если бы все русские поэты были прочитаны столь же небрежно, как Лермонтов, то, действительно, не стоило бы ломать копья. Но ведь Пушкин, например, местами вылизан чуть ли не до кости. Отчего же к Лермонтову такое внутреннее пренебрежение? Как выясняется со временем, совершенно прав был Н. И. Либан, неоднократно утверждавший, что Лермонтова недостаточно как следует изучить, что его сначала необходимо в полном смысле слова реабилитировать: «Моя мысль – оправдание его ожесточения, оправдание в тех л о ж н ы х о ц е н к а х, которые к нему приросли, его реабилитация» (Сборник трудов памяти Н. И. Либана: М.: Круг, 2015. С. 404).
Вернемся, впрочем, к «фарису». Имеются все основания полагать, что это слово арабское и означает оно не что иное, как «всадник, наездник; витязь». По-арабски «фара» – конь, лошадь. У нас есть данные, что Лермонтов одно время изучал азербайджанский язык. К тексту «Демона» поэт лично прокомментировал целый ряд грузинских слов. Но никакими сведениями о его познаниях в области арабского языка мы не располагаем, хотя едва ли стоит утверждать, что Лермонтов с его способностью к языкам арабского вообще не знал. «Три пальмы» конкретно свидетельствуют об обратном. Гадание на кофейной гуще, конечно, дело крайне неблагодарное. Поэтому никаких предположений по поводу уровня владения Лермонтовым арабским языком мы делать не будем. Однако, та естественность и уместность, с которыми Михаил Юрьевич применяет неизвестное русскому читателю арабское слово, заставляют усомниться в том, что образ «песчаных степей» в «Трех пальмах» носит исключительно декоративный, чисто условный, книжный характер. А ведь именно это и старались внушить читателям литературоведы советского периода: «Роковое свершение в «Трех пальмах» протекает в условных пределах «аравийской земли» ( условность оговорена подзаголовком «Восточное сказание») (ЛЭ. С. 579). И даже признавая «географическую и этнографическую точность» повествования, В. Н. Турбин в целом оценил это произведение как «стилизацию», т.е. как нечто сугубо вторичное, даже если и не совсем подражательное (там же).
Читать дальше