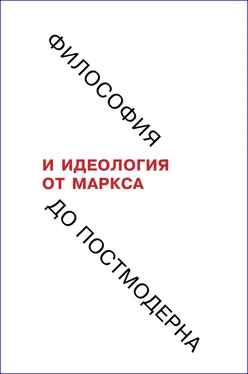Прямая актуализация «Немецкой идеологии» (или, скажем, программномобилизующей XXIV главы первого тома «Капитала») очевидным образом неэффективна. Карл Маркс – величайший мыслитель XIX в., но именно поэтому трагическая судьба его учения яснее всего обозначила, как объективные, непреодолимые видимости этого века подчиняют себе самую решительную теорию.
Маркс полагал, что имеет дело с капитализмом зрелым, системно завершенным. В действительности он жил и мыслил в эпоху продолжавшегося генезиса капитализма . Именно недоразвитость товарно-капиталистических отношений делала эмпирически неопровержимыми такие теоретические декларации Маркса, как:
– сводимость всякой тенденциозной искаженности сознания к классовособственническому интересу;
– закон абсолютного обнищания;
– превращение рабочего класса в класс без собственности;
– понимание свободы от собственности как свободы от идеологических искажений классового сознания (попытка выдать пролетариат за своего рода «святое сословие», которое не подвержено никакой греховной тенденциозности мышления, поскольку экономически «живет не по лжи»).
Уже к началу ХХ столетия стала видна теоретическая сомнительность этих утверждений. Они были отброшены в революционное движение капиталистически неразвитой России, легли в основу совершенно немыслимой для Маркса «пролетарской идеологии», а затем в статусе «марксистско-ленинской идеологии, научной в силу своей революционности и революционной в силу своей научности», активно внедрялись в международное коммунистическое движение.
Эта метаморфоза не отменила ни Марксова материалистического понимания истории, ни такого базисного утверждения его теории идеологии, как зависимость строя идей от строя социально-экономических отношений. Однако после Второй мировой войны актуализация этой теории стала возможной лишь с учетом тех оговорок и поправок, которые успел наметить «поздний Маркс», и тех коррекций и творческих экспликаций, которые предложила неомарксистская и околомарксистская социально-философская мысль.
Давно замеченные ее представители – это Г. Лукач, К. Мангейм, А. Грамши, К. Корш, Э. Фромм, Э. Блох, Л. Альтюссер. Но нам, российским философам, грех было бы не вспомнить о «московском подцензурном неомарксизме» 1950–1960-х гг., о тех, кто всерьез продумывая Марксово понимание сознания и мышления, сделали возможной оригинальную «шестидесятническую» редакцию его теории идеологии.
Часть II [26] Впервые опубликовано: Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть II // Филос. журн. 2017. Т. 10. № 3. С. 5–31.
При обсуждении задач нашего Общеинститутского семинара не раз высказывалось пожелание, чтобы его докладчики (особенно люди солидного возраста) предъявляли свои тезисы и аргументы как идеи, выстраданные в личном опыте и опыте своего поколения. Как человек, вот уже 60 лет подвизающийся на философском поприще, я не могу не выполнить этот мемориальный долг. И должен заметить, делаю это с охотой, увлечением и в полную меру моей основной, историко-философской квалификации.
Напрямую (как иногда говорят, «тематически») я столкнулся с проблематикой критики идеологий в конце 60-х гг. О ключевых идеях, которые владели мною в ту пору, заинтересованный читатель может составить представление, ознакомившись с Предисловием к книге «Массовая культура – иллюзии и действительность» [27] См.: Соловьев Э.Ю. Предисловие // Массовая культура – иллюзии и действительность. М., 1975. С. 3–27.
.
Предисловие это (как и книга в целом) – одно из выразительных свидетельств того, как российские философы, социологи и журналисты 60–70-х гг. справлялись с вызовом стремительно разраставшейся социологии знания.
Но куда более интересным для проблематики философского просвещения, с самого начала заявленной в настоящих очерках, был поколенческий опыт , к которому я оказался причастным десятилетием раньше. Речь идет о духовном обновлении, начавшемся с никем не ожидавшейся дискуссии о предмете философии, которая разгорелась на философском факультете МГУ и получила впоследствии название «московской философской оттепели» [28] Свое понимание контекста, динамики и ближайших последствий этой дискуссии я совсем недавно изложил в очерке: Соловьев Э.Ю. Моховая, 11 – Волхонка, 14 // Философская оттепель и падение догматического марксизма в России. Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в воспоминаниях его выпускников. М.; СПб., 2017. С. 84–109.
.
Читать дальше