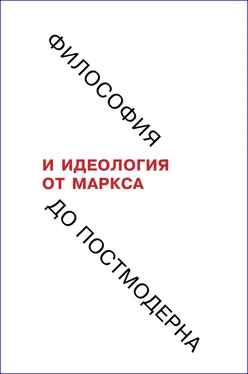1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Нельзя отрицать, что тексты русской идеи содержали немало интересного и правильного, особенно – когда речь шла о трагичности переживаемой ситуации или о своеобразии и богатстве отечественного духовного наследия. И все-таки уже в 1997 г. авторитетная экспертная комиссия вынуждена была признать, что проработка русской национальной идеи в прессе не дала результатов, существенно значимых для определения политической и экономической стратегии, установления национального консенсуса и преподавания истории в школе. После этого, насколько мне известно, руководство страны не посылало никаких сигналов, свидетельствующих о существовании госзаказа на национальную идею.
Между тем вера в его наличие по-прежнему не затухает. На свет появляются новые и новые версии российской миссии, адресованные Кремлю. Таковы, например, утопия «русского мира», или (это, увы, не шутка) русская идея китайского пути развития, или достаточно откровенные мечтания о царстве «сталинизма с человеческим лицом». Стимулированные разными формами ностальгии и превратной диалектикой информационного противоборства, проекты эти приноровляются к новым геополитическим страстям и становятся допингом для новых форм нетерпимости.
* * *
Чем же может ответить на подобные процессы философия как критика идеологий?
Декларации о миссиях – это особый жанр историософии, хотя, как правило, в вульгарном ее варианте. Это род спекуляций (в расхожем, критикопублицистическом значении данного выражения) и реликт романтического образа мысли, вышедшего далеко за предел XIX столетия, где ему полагалось бы оставаться. В XX в. всякая версия национальной миссии замыкается (и не может не замыкаться) на историцистскую трактовку общественной эволюции, то есть – на понимание истории как поступательного прогресса по осмысленному плану. Поэтому общая ориентация критики современных воодушевляющих проектов не может не быть антиисторицистской .
Но за антиисторицизмом второй половины XX в. стоит давняя и хорошо проработанная скептическая культура .
Важнейшая интенция скептицизма, известная со времени Секста Эмпирика, – это блокирование слабо обоснованных упований (благодушных ожиданий и надежд). В жизненной практике именно они прежде всего выбраковываются аргументированным сомнением.
Эта требовательная верификация ожиданий поднимается на высокий уровень в скептицизме Нового времени (М. Монтень, П. Бейль, Вольтер, Д. Юм). Его финальным аккордом можно считать скептико-агностическую философию Канта.
Кант – «величайший скептик Нового времени», справедливо замечал Э.В. Ильенков [22] Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 116.
. Одно из удивительных новаторств Канта заключалось в том, что он поставил под сомнение благодушный прогрессизм предшествующего Просвещения. Скажу больше, в эклектичной философии истории, вышедшей из-под пера И.Г. Гердера, Кант сумел расслышать концепт разумной необходимости в гегелевских его очертаниях . Поставив этот концепт под отрезвляющую иронию, Кант оказался упреждающим критиком историцизма , пришедшим из скептического лагеря. В статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» разумная необходимость предзамещена удивительным понятием «высшая задача природы для человеческого рода» [23] Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // И. Кант. Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М., 1994. С. 18.
. Это ориентир, стоящий перед непредопределенной, открытой, рискованной исторической практикой [24] Образ мысли, предъявленный в кантовской «Идее…» родствен антиисторицизму ХХ в. (Л. Витгенштейн, поздний Тойнби, К. Ясперс, К. Поппер). Благодаря этому сочинению, мы можем увидеть, что концепт «открытой истории» есть один из видов квалифицированной скептической философии.
.
Не менее интересно, что «Идея всеобщей истории…» открыла возможность для наложения на масштабные исторические ожидания важнейшего различения кантовской эпистемологии – различения мира феноменов и мира ноуменов.
Оригинальность кантовского агностицизма (до сих пор не всегда понимаемая) – в его соотнесенности, с одной стороны, с эталоном послегалилеевской опытной науки, а с другой – с вопросом о предметностях веры, как он прорабатывался в напряженной протестантской теологии, не чуждой мысленному эксперименту.
Кант как никто решительно требует, чтобы знание держалось в границах опыта. Он ставит под сомнение (больше того – под радикальное научное недоверие) всякое сверхопытное умствование, всякую рациофикацию фантазий и грез.
Читать дальше