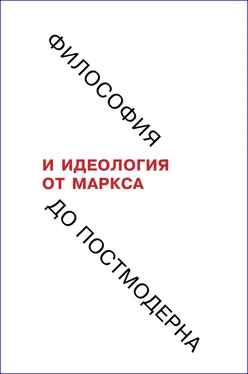* * *
В ходе информационного противоборства в конфликтующих идеологиях складываются сходные, однотипные представления об организации сознания людей, о самой идеологии. Представления эти можно было бы назвать «вульгарной социологией знания» (в том смысле, в каком Маркс говорил о «вульгарной экономической науке»).
В ХХ в. социология знания была одной из самых живых и плодотворных теоретических дисциплин. В ее разработке участвовали и такие социологи милостью божьей, как Э. Дюркгейм, и исследователи, отмеченные недюжинным философским талантом (как М. Шелер, Х. Плесснер и Т.-В. Адорно).
В последнюю четверть века дисциплина эта находится, однако, в тяжелом состоянии. Как и прежде, не испытывая недостатка в талантах, она вместе с тем представляет собой говорение без консенсуса – коллаж оригинальных теоретических мнений, податели которых не только не стремятся к какому-либо критически выверенному диному суждению, но просто не слышат друг друга. Ситуация усугубляется распространением постмодернистских дискоммуникативных поветрий – режимом перманентного дискуссионного скандала, который блестяще зарисован Александром Рубцовым в недавних публикациях, посвященных постмодерну в политике и архитектуре [25] См., например, упомянутую выше работу: Рубцов А.В. Постмодернизм в политике – просто беда. URL: http://www.ng.ru/stsenarii/2014-03-25/14_chaos.html.
.
Если консенсус где-то еще и существует, то в справочных изданиях, пособиях и руководствах по социологии знания . В этих компендиумах (кстати, совершенно однотипных у нас и за рубежом) и оседают представления, которые я пометил выражением «вульгарная социология знания».
Компендиумы по социологии знания задают ценностно-нейтральное восприятие и понимание идеологии. Ее стандартная дефиниция такова: идеология – это так или иначе концептуализированный набор идей, предлагаемый с интонацией обоснованной истины и санкционирующий либо сохранение status quo , либо, наоборот, отвержение и радикальную перестройку господствующего порядка. Далее говорится, что представления, входящие в идеологию, могут быть как научными, так и ненаучными; как обоснованными, так и необоснованными; как истинными, так и ложными. В целом же она должна приниматься в качестве образования неистинного и неложного (или – столь же истинного, сколь и ложного). От читателя требуют, чтобы он занял по отношению к идеологии позицию отстраненного наблюдателя и исследователя.
Авторы социологических компендиумов просто отказываются видеть, что феномен идеологии интересует отнюдь не только аспирантов, готовящих соответствующие научные рефераты, но и множество людей, на сознание которых идеологии претендуют и которые уже находятся под воздействием хотя бы одной из них. Весь дискурс этих компендиумов подостлан снобистским равнодушием к социально обеспокоенному рядовому участнику общественной жизни, которого часто называют субъектом обычного сознания . За последним признается психологическая сложность, отображающая сложность породивших его повседневных жизненных обстоятельств. Вместе с тем этому психологически трактуемому сознанию по строгому счету отказано в способности противостоять (или наоборот – осознанно следовать) направленному на него все более организованному, все более целенаправленному потоку массовой информации. В отношении к этому потоку обычное сознание есть беззащитная tabula rasa . Это сознание «простака, встретившегося с обманщиком» (объяснительная модель раннего Просвещения). Это сознание без самосознания, носитель которого не поднимается до понимания своей вины (или хотя бы совиновности) в отношении разделяемого им заблуждения и неспособен преодолевать его (заблуждение) в качестве самообмана .
Вдумываясь в эту ситуацию, я все больше склоняюсь к выводу, что противостоять нынешней дискурсивно расшатанной социологии знания может только актуализированная классическая традиция .
Мне нравится формула «модерн – незавершенный проект», которую Юрген Хабермас бросил в ответ на шабаш постмодернистской риторики. И чем чаще я вижу, как размывается, размазывается понятие «постклассического», тем больше мне хочется обсудить возможности «неоклассической позиции».
В теории идеологии (как и в социологии знания в целом) первый из классиков – это Маркс, хотя «Немецкая идеология» и «Коммунистический манифест» были написаны вовсе не для теоретиков, культивирующих в себе ценностно-нейтральный объективно-отстраненный взгляд на социально влиятельные идеи. Маркс ориентировал в идеологии лидеров растущего рабочего движения, или, если угодно, радикальных граждански-социальных активистов тогдашнего обычного сознания.
Читать дальше