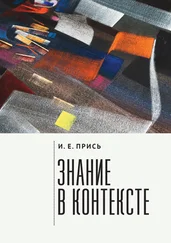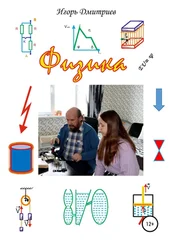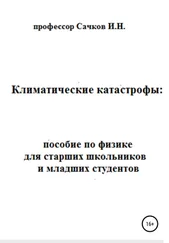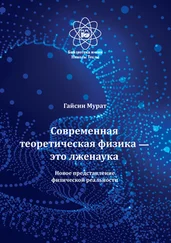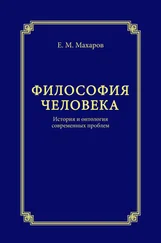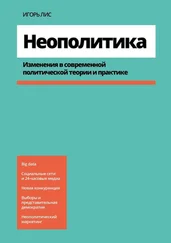В Части Iизлагается наша реалистическая точка зрения, которую, следуя Бенуа, мы называем контекстуальным реализмом. (Главы 1–3.) Это синтез нашей интерпретации второй философии Витгенштейна и позиции Бенуа. Излагается также собственно позиция Бенуа. (Глава 4.)
Мы, в частности, рассматриваем понятия реальности, явления, данного, языковой игры, формы жизни, самой вещи и другие. Языковая игра понимается как употребление правила (нормы) для «измерения» реальности как «ощущаемого». В то же время языковая игра есть явление, предполагающее различие между видимостью и реальностью, в рамках которого дана являющаяся вещь. В случае подлинного данного (языковой игры, явления) сама являющаяся вещь укоренена в реальности, есть ощущаемый реальный объект в широком смысле, контекстуальное бытие. Традиционная феноменология, семантический идеализм, корреляционизм, метафизический реализм, метафизический платонизм, (метафизический) структурный реализм, а также некоторые разновидности «нового реализма» отвергаются в пользу неметафизического витгенштейновского по духу контекстуального реализма.
В Части IIв рамках витгенштейновского в широком смысле подхода мы критикуем метафизический реализм, платонизм и структурный реализм в философии физики и предлагаем заменить их «контекстуальным научным реализмом». В этих рамках решаются основные философские проблемы философии физики. В частности, контекстуальный подход применяется для выяснения природы физической теории, смысла принципа соответствия и единства физики, трактовки проблем пространства и времени, специальной и общей теории относительности, квантовой теории, теории струн. Также даётся ответ на аргумент пессимистической индукции, решаются (устраняются) проблемы доступа к реальности, недостижимости идеала и другие.
Физическая теория интерпретируется как «витгенштейновское правило» (норма) для «измерения» физической реальности, а практика её применений – как «форма жизни» в смысле позднего Витгенштейна. Её истинность логическая в смысле витгенштейновской «философской грамматики». Она может быть либо применимой, либо нет, но не может быть ложной. Поэтому в противоположность позиции Карла Поппера мы утверждаем, что критерием устоявшейся научной теории является её нефальсифицируемость. Статус витгенштейновского правила имеет, например, «замкнутая теория» Вернера Гейзенберга. (Глава 5.)
Изучаются процессы эволюционного и революционного преобразований физики – в частности, перехода от классической парадигмы к квантовой. Принцип соответствия интерпретируется как принцип естественного обобщения. Утверждается, что физика и природа одновременно и едины, и плюралистичны. (Глава 6.)
Вводится различие между классическими и квантовыми концептами и иллюстрируется их применение. Устанавливается связь между квантовой проблемой измерения, «трудной проблемой» философии сознания и витгенштейновской проблемой следования правилу. Эти проблемы устраняются логически. (Глава 7.)
Анализируются аргументы в пользу тезиса о возможности «неэмпирического подтверждения» физической теории (например, теории струн) и, в частности, аргумент об отсутствии альтернатив. Утверждается, что принцип вывода к наилучшему объяснению является более фундаментальным, чем аргумент об отсутствии альтернатив. (Глава 8.)
Наша реалистическая точка зрения иллюстрируется на обыденных и физических примерах. В частности, утверждается, что бозон Хиггса представляет собой контекстуальный объект в рамках Стандартной модели и практики её применения, а природа гравитационных волн в известном смысле зависит от выбора физической теории для их описания. (Глава 9.)
Выявляется смысл и природа пространства и времени. Утверждается, что пространство-время реально, контекстуально и плюралистично. Физическая дуальность трактуется как семейное сходство между физическими теориями. (Глава 10.)
Предлагается реалистическая интерпретация квантовой механики. Посредством контекстуализации устраняется остаточная метафизика в реляционной квантовой механике Карло Ровелли, интерпретации Эверетта и копенгагенской интерпретации. (Глава 11.)
Запутанная волновая функция трактуется как «причина» квантовых корреляций. Утверждается, что коррелирующие события на автономны, а определяются в контексте их наблюдения. Независимо от средств их наблюдения нет никаких событий. Редукция волновой функции в «процессе измерения» не реальный физический процесс, требующий своего объяснения, а переход в контекст измерения конкретного значения физической величины. Соответственно, измерение не физическое взаимодействие, возмущающее состояние системы, а идентификация контекстуальной физической реальности. (Глава 11.)
Читать дальше
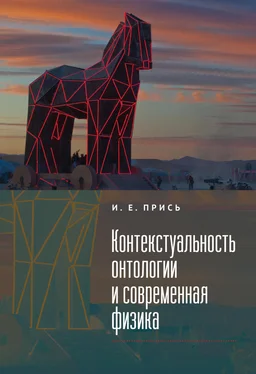
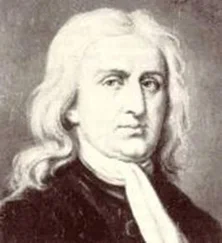

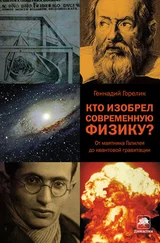


![Игорь Дубов - Современная советская фантастика [Сборник]](/books/412259/igor-dubov-sovremennaya-sovetskaya-fantastika-sbor-thumb.webp)