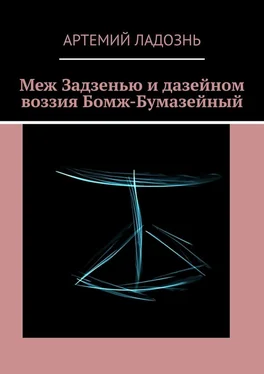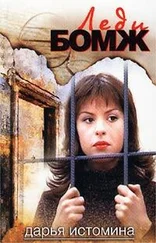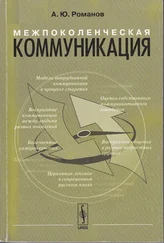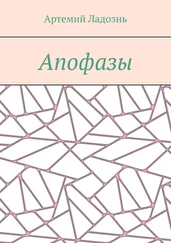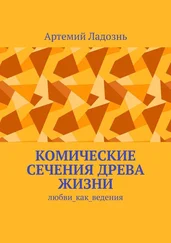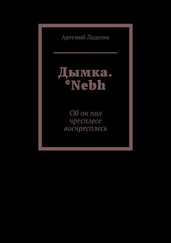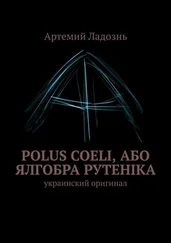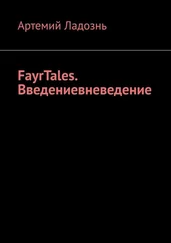Но в остальном он всегда был с народом , а критика его неизменно обрушивалась на узкоэкспертно-жреческую притязательность, имеющую (подобно идолу Эль-Демократийя и в отличие от унтер-офицерской вдовы) склонность к самопосрамлению. Простые нередко являют мудрость, ускользающую от тех, чей духовный взор давно атрофировался под тяжестью вспоможений и «костылей», за интуицию и опыт все чаще принимая привыкание и леность в различении и сличении. Разумеется, неприятным открытием станет для него известная материализация философского суждения одного мудреца из богадельни, склонного рассматривать толпу как «стадо баранов, нуждающегося в пастыре» – что и демонстрирует век сей, когда сковороды и прочий интернет вещей поумнели настолько, что компенсировали хиреющий разум, в досадном контрасте с футуристическими и даже антиутопичными прогнозами той далекой поры, когда все мы были «ближе к будущему» и когда потомки грезились полубогами столь совершенными, что дефицит человечности проявлялся бы в излишнем уклонении от пороков и страстей. О, знать бы тогда, что сии последние выродятся настолько, что вознесены будут в ранг достоинств, когда зло не только требует терпимости и смиренного снисхождения, но тщится слыть исключительно достопоклоняемым. Я-де урод, посему уважьте меня!
Да, немало было ценных и колоритных «экспонатов» в том богоугодном (а злым языкам показалось бы – богозабытом) философском доме . Пожалуй, что – философском пароходе, ковчеге отчуждения, или «идиотизма», – воли быть собой и не квакать в такт клубу. А кому мнится пропасть меж двумя пароходами, так дерзнем вспомнить, что и от оного пресловутого прославились или хоть «прогремели», мягко говоря, не все. Пожалуй, никто за редким исключением вроде Сорокина… Или, возможно, поспешит читатель провести более разительный контраст, своего рода линию Маннергейма меж двумя непримиримыми лагерями: неформальных кухонных мудрецов, так ничем и не утвердившимися – и кастами «профессиональных мыслителей с девяти до пяти», чей нехитрый вклад вроде доказательства единственной теоремки по следам ранее проторенным заработали им чины и ранги…
Как ни готов бывал поспешить на помощь, с ним нередко приключалось тяжкое испытание: всякий раз посреди вящего безденежья ему попадались несчастные просители. Помимо явного знакомства с психологией (иначе как бы прочли на челе его отзывчивое «лопушество»), их трогательное и доверчивое бесстыдство и впрямь нередко выдавало острую нужду, внезапное озлобление среды и наглую предгибель . Подобное, по слову среднего и околокритического Хайяма, «издевательство неба» было совершенно невыносимо сердцу взыскующему, неравнодушно-неупокоенному и не утучненному нирваническим бесстрастием либо дебело-одеревенелой сломленностью. За что – к чему подобное унижение без греха? Наглый суд в виде наглых же (видимо «н а праздных») страданий других, подобный внезапной смерти?
А на всякое неравнодушное сердце, ищущее откликнуться и помочь помимо собственной самодостаточности, всегда найдутся радетели-доброхоты с целебной бейсбольной битой. Одни от сего расколотого лагеря и разделившегося дома – назовем их де-факто неверными циниками – известны склонностью отыскивать патологию во всяких отправлениях творческого или любящего сердца, и не преминут детектировать самолюбование либо тщеславие, а то и выгоду во всяком желании оказаться полезным да послужить нуждающимся. Их внешние противники из самозваных учителей церкви – отчего не величать таковых де-юре верующими ? – так вот, сии, в ответ на омрачающую жизнь дополнительную боль неведения смысла в избыточных страданиях любимых или просто «ближних» (чей ареал взаиморелевантен твоему), неизменно нарекут мотивы гордыней пополам с отчаяньем (пусть и споря в нюансах некореллирования сих двух с тщеславием), соделав несчастного повинным погибели и Суда в меру отягощенности сразу несколькими смертными грехами (технически – страстьми, пусть и без похотей, как и вне нарушения буквы апофатических заповедей).
Сродни и вдогонку тому, как доставалось от него докам над доками, так перепадало на орехи и учениям над учениями. Не только заезженным «дерьмокраси» и «постмодерьми» (равно не терпящим ровно того, что постулируют и воспевают), но и ана- и эпибуддизмам, склонным вопреки собственным блужданиям, снисходительно похлопывать «меньших братьев» по плечу.
Читать дальше