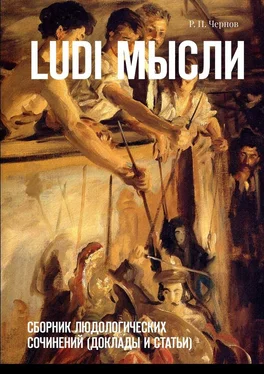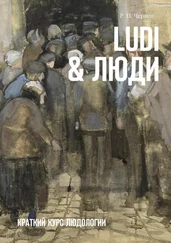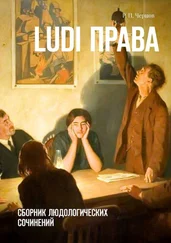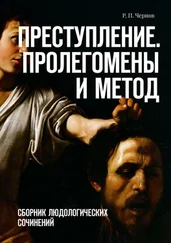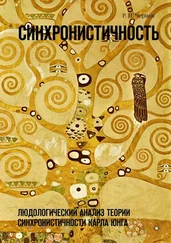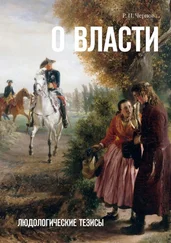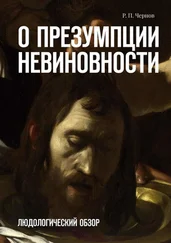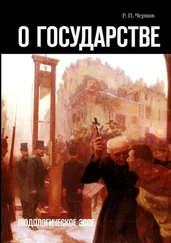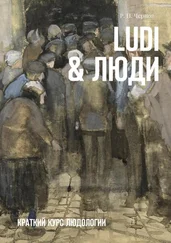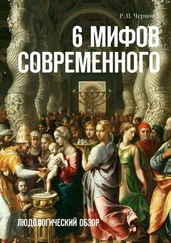С самых ранних эпох отдельные умы человечества заняты определением критерия человеческого бытия, который бы позволил с достаточной уверенностью объяснить закономерности существования, стабилизируя хаотичность окружающего. Парадокс, порождающий апорию заключается в том, что определение человеческого пытаются вывести из самого человеческого, что невозможно, как невозможно различать черное на черном фоне. Философы первыми поняли это, избрав методом познания созерцание, основанное на дистанцированности от всего, что не есть философия. Философ – это всегда одиночка, внутренний мир которого в будущем становится «установкой» многих. Философия – это убийство всего того, что было привнесено в тебя не тобой самим, это вечная борьба с общественным «надо», это вечная усмешка и презрение по отношению ко всему, что придумано не самим тобою… Результатом этой жизни «только для себя» является формирование личного мира, личного восприятия и понимания мира, которое только потом становится «новым» и уж совсем потом – «обычным», общетеоретическим. Итак, метод философии предполагает:
– Осознание себя избранником, дистанцирование самого себя по отношению ко всем, ко всему человеческому.
– Направленность познания на мир в целом, здесь принципом является следующее: необходимо создать такую систему, которая бы полностью охватывала бытие человека, объяснило его, чтобы вне ее не было ничего человеческого.
– Спокойствие, которое достигается не участием ни в чем другом, кроме рефлексии.
Целью данного метода было удаление от человеческого, выход за его рамки, который бы позволил со стороны взглянуть и определить человеческое. Философ и обычный человек в своих взглядах на мир похожи на двух любителей картин, писанных маслом: один стоит, наблюдая поодаль, другой – в 3-х сантиметрах…
Философия могла родиться только в условиях мифа, из самого мифа, ибо философ по сути делал то, что ранее жрецы – конституировал бытие, называя его. Существование человека ограничено кругом известных ему вещей, формирование данной известности достигается путем «называния» предметов. Вне того, что известно – нет бытия, есть пугающая неопределенность, которую необходимо устранить, оформив ее через знание о ней – такова, например, сущность и причина мифа о загробной жизни. Заметим, что и само слово «неопределенность» тоже является «называнием», требующим (необходимо требующим) детализации в дальнейшем.
«Ошибкой» философии (если в истории вообще бывают ошибки) является то, что она так и не осознала, что отрицание сущности еще не избавляет от нее – нигилизм в отношении предшествующего не является условием выхода из круга человеческого, он есть лишь переход в новую его сферу, сформированную на основе «называния» тех неопределенностей, которые возникают после отрицания уже известного. Именно поэтому кантовское «сколько философов – столько философских систем», к сожалению, неоспоримо истинно.
После того, как взгляды философа получают универсальный характер и становятся доступны для восприятия неперсонифицированного кругом лиц, можно говорить о рождении нового мира, вернее того, что будет определять мир. Вспомним: «Друг мой, я три раза читал Аристотеля, у него нет упоминания ни о каких пятнах на солнце, а, следовательно, их не может быть»…
В чем функция философии? В том, что она снимает противоречия, возникающие в сознании всех (общественное бытие и возможности) и каждого (индивидуально – определенное бытие в возможности). Изначально эту функцию выполняет язык, затем архаичная культура, выражающая себя в тотемах, мифах (которые являются автоматической стабилизацией: имя – предмет) и только затем философия. Отметим, философия в этом понимании родилась только с появлением Аристотеля: он первый сделал акцент на этом 10 10 Аристотель. Метафизика. -Ростов-на-Дону, 1999, стр. 9
, и он же разработал форму, благодаря которой стало возможным не механически «называть», а создавать целостную систему мировидения – логику, придав ей статус необходимого условия знания вообще. С этого момента философия стала продуцировать мировидение человеческого.
Апогеем философского знания, как странно бы это ни казалось, является средневековье, а точнее церковь с ее догмами христианской морали. Еще точнее – средневековый монах это тот же философ; форма осталась та же, изменилось содержание, в остальном же церковь полностью унаследовала традиции и методы философии – отрешенность, универсальность познания, modus vivendi, верность форме структурирования знания 11 11 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. -М., 1993, стр. 819
…
Читать дальше