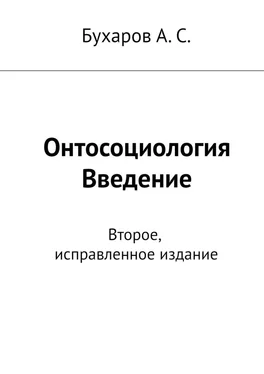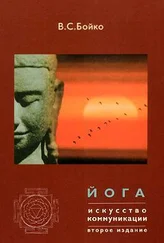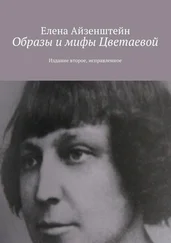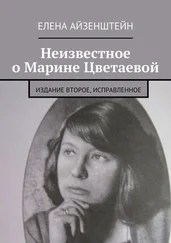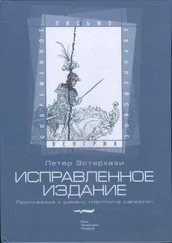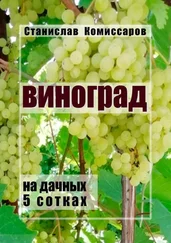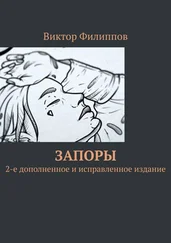Еще менее рассчитаны на это заведомо конвенциональные решения в виде разного рода теорий «среднего диапазона» – в этом своем качестве отличных от содержания и предназначения рабочих теоретических моделей и гипотез, а в известном смысле и альтернативных им. Часть из теорий подобного типа, позволяя достичь определенных прагматических целей, одновременно предполагает существование иных, более широких и их определяющих уровней теоретического знания, практическим приближением к которым становятся, как предполагается, их собственные промежуточные результаты. Однако по самым разным основаниям возможность или необходимость обнаружения иных теоретических горизонтов «выводится за скобки» или относится к неизменно откладываемому будущему – как, соответственно, и подтверждение теоретической ценности предлагаемого подхода. Для других разновидностей школы «условного теоретизирования» фундаментальная проблематика исследуемой ими реальности оказывается так или иначе решенной изначально – посредством ссылки на небесспорные, но относительно завершенные и влиятельные философско-теоретические толкования исторической действительности, либо в силу простой убежденности в ее, этой проблематики, сугубо умозрительной природе или принципиальной неразрешимости. Противоположной разновидностью «отложенных» теоретических решений является исходное определение мира человека в качестве некоей тотальности, представляемой в виде совокупного «социокультурного процесса», всеобъемлющего «движения общественно-исторической практики», универсально взаимозависимых и релевантных «систем практик», и целого ряда подобных им и, в конечном счете, самопорождающих процессов или тождественных самим себе явлений. Критики подобного подхода обнаруживают в нем немало существенных методологических изъянов, истоки которых относятся к идейному наследию эпохи «великих теорий». В условиях отсутствия пока не обнаруженных в реальности, общезначимых и соразмерных ей оснований теоретико-социологического анализа, как следствие – неизбежного замещения рассматриваемого объекта той или иной его редуцирующей абстракцией, эта исследовательская стратегия открывает простор для произвольного препарирования и самой «совокупной практики» и ее контекста. Последний, чаще всего, выступает в форме непосредственно различимых примет и характерных конфликтов определенной, также интуитивно, либо по неким селективным признакам выделяемой стадии или исторической конфигурации «современности». Как следствие построение теоретической модели связи и движения мира социальных явлений не выходит за рамки сообщения исходно принимаемой абстракции того или иного набора столь же произвольно «возвращаемых» ей атрибутов, или интеллектуального конструирования в замкнутых границах логического «круга в обосновании». Развиваемые с противоположных позиций, но в едином русле методологии и добрых намерений теоретизирования «среднего уровня», эти и подобные им подходы практически до сих пор играли двусмысленную роль в движении теоретического социального знания, одновременно в некотором смысле стимулируя и сдерживая его. Предпринимаемые в их рамках усилия, как и, своего рода, воздержание от них, в целом пока не приводят ни к преодолению кажущегося неистребимым и принимающего множество обличий социологического раскола, ни к большей результативности общей социальной теории. В немалой степени этот итог оказывается логическим следствием изначально постулируемого, вынужденного, временного или принципиального отказа от ориентации на поиск системно-генетических оснований единой для всех ответвлений общественной науки реальности. Естественным продуктом, а порой и условием теоретической «умеренности» оказывается широко распространившееся замещение проблематики теоретического исследования социальных явлений внутренней тематикой изучающих их дисциплин и возникающих в их рамках отдельных направлений и исследовательских школ. Нередко эта специфическая тематика и перманентно обсуждаемые в ее рамках затруднения утверждаются в качестве собственно основополагающей проблематики социального знания.
На этой почве в последние десятилетия возник и получил заметное развитие своего рода «примиряющий» взгляд на перспективы и пути построения социальной теории, предполагающий возможность сближения и идейного синтеза разноголосицы теоретических представлений и методологических позиций. Специфика сложившейся в его рамках слабо интегрированной совокупности идей заключается, прежде всего, в выработке общих рекомендаций по «реально осуществимому» или достаточному, разумно-адекватному или все же еще предстоящему преодолению затяжного кризиса социально-теоретической мысли. Общей основой социологического консенсуса предлагается считать более широкий взгляд на предмет и метод социального теоретического исследования, в том числе исключающий наличие каких-либо инвариантных свойств и их обнаруживающих законов социальной реальности в силу отличающего ее родового качества – способности человека к саморефлексии и ее инструментализации. Как следствие предполагается, что бесконечная пластичность структуры социальных связей, вытекающая из способности людей осознанно модифицировать постигаемые ими условия собственного существования, делает поиски непреходящих оснований и способов теоретического выражения последних заведомо бессмысленным занятием, в силу чего социальное теоретизирование должно быть ограничено пределами самых общих и периодически обновляемых эпистемологических ориентиров. Одной из разновидностей, а также, одновременно, своего рода и предпосылкой, и следствием этого подхода являются попытки не только раздвижения диапазона возможных языков и средств научного объяснения, но и выработки нового взгляда на критерии научности в области социального знания, в том числе опирающиеся на констатацию усложнения или «смягчения» этих критериев в дисциплинах естественного цикла. Эта тенденция теоретической социологии, обнаруживая стремление к уточнению онтологических представлений о «социальном», пока не осуществляет попыток их социологической конкретизации или нового формулирования общей теории социокультурных процессов.
Читать дальше